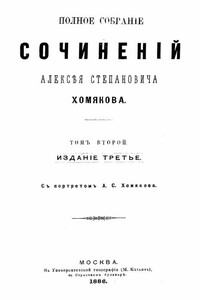Римлянин ли скажет эту историю? Но он сам не высматривает в ней ничего более, как только театральное представление, конечно, не лишенное некоторой торжественности, но чуждое серьезного значения; ничего более, как только много–вековое пустословие, признак долгого невежества и как бы недогадки целого общества, которое в продолжение пятисот лет присваивало себе право обсуждать догматические вопросы, как видно, не подозревая, что в его же среде находилась законная власть, которой одной это право было дано Самим Богом.
Нет, история Церкви, та умственная и нравственная закваска, которой Запад должен всем, что есть у него великого и славного, перестала быть понятною для раскола с той поры, как он отринул ее основание. Она при нас, и при нас одних, — эта история, строгая, как наука в логическом сроем развитии, исполненная поэзии, как гимны первых веков, существенно отличная от всех других бытописаний человеческих и бесконечно возвышающаяся над всеми их материальными и политическими треволнениями. «Но Восток умер, — говорят люди Запада, — а мы, мы живем». О жизни общественной, материальной и политической я говорить не стану, но говорю о жизни умственной, поколику она носит характер религиозной жизни, т. е. поколику она — проявление Церкви.
Запад издавна свободен, богат, могуществен, просвещен. Восток беден, темен, большею частью порабощен, весь целиком погружен в невежество. Пусть так; но сравните в этих двух областях, которых политические судьбы и теперь так различны, сравните в них обнаружения христианства. Поищем какого‑нибудь проявления Церкви в протестантстве, какого‑нибудь жизненного движения в его учении! Размножение новых сект; разложение древних исповеданий; отсутствие всякого установившегося верования; постоянные усилия создать то свод учений, то общину с непременным символом, — усилия, постоянно сопровождаемые неудачами; труды отдельных лиц, бесплодно теряющиеся во всеобщем хаосе; годы, текущие один за другим, не получая ничего в наследие от годов минувших и не оставляя ничего в наследие грядущим годам; во всем колебание и сомнение; таков в религиозном отношении протестантский мир. Вместо жизни мы находим ничтожество или смерть.
Поищем проявления Церкви в романизме! Обилие политических треволнений, народных движений, распрей или союзов с кабинетами; несколько административных распоряжений, много шума и блеска, и ни одного слова, ни одного действия, на котором бы лежала печать жизни духовной, жизни церковной… не ничтожество ли и здесь? В последнее время, однако, появился обязательный декрет по догматическому вопросу, исшедший от первосвященнического престола[752]. Значит, это акт вполне церковный в самом высоком значении слова; он заслуживает особенного внимания, как акт в своем роде единственный за много веков. Этим декретом возвещается всему христианству и будущим векам, что присноблаженная Матерь Спасителя была от самого зачатия изъята от всякого греха, даже первородного. Но Св. Дева не испытала ли общей участи человеческого рода, то есть смерти? — Испытала. — А смерть не есть лр наказание за грехи (как поведал Дух Божий устами апостола [753])1? — Видно, что нет! В силу папского декрета, смерть стала независимою от греха; она стала простою случайностью в природе; и затем — все христианство уличено во лжи. Или Св. Дева подверглась смерти подобно Христу, принявши на себя грех за других? Но если так, то у нас два Спасителя, и христианство опять уличилось бы во лжи[754]. Вот как истолковываются Божий тайны в исповедании римском; вот какое наследство передает оно будущему! Итак, что находим мы в романизме? Молчание или ложь; ничтожество или признаки духовной смерти, выступающие при первом покушении придать себе вид церковной жизненности.
Церковь не говорит без важной надобности. Но в наше время Рим со своим первосвященником во главе учинил на нее нападение словом, и она отвечала. Из недр невежества и унижения, из глубины темницы, в которой исламизм держит христиан Востока, раздался голос[755] и поведал миру, что «познание Божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви». Это слово было признано за слово Церкви. Оно заключает в себе общую формулу ее истории и стало величавым наследием для будущих веков. Для нас, сынов Церкви, это победная песнь среди страданий и голос Того, Кто за Свою любовь и Свою вольную жертву есть возлюбленный Отчий; но не побоюсь сказать, что ни одна честная и серьезная душа, верующая во что бы то ни было или неверующая, не откажется признать это слово за одно из прекраснейших, когда‑либо исходивших из человеческих уст. У кого же наследие прошедших веков? Где продолжается история Церкви? Где жизнь действительная при кажущемся омертвении, где смерть действительная при кажущейся жизненности?