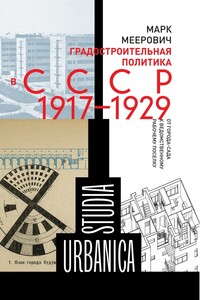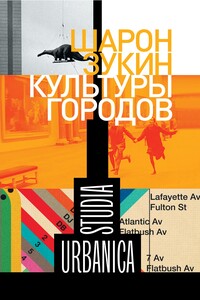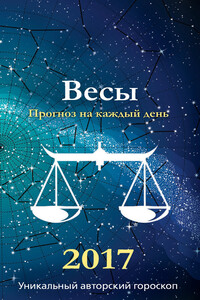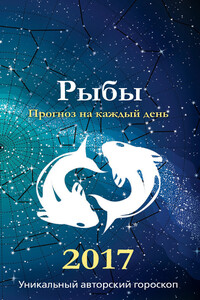Понятия, которые не приходят из мира упорядоченных (асептических) терминологических систем, а затвердевают в процессе патического участия в проживаемой жизни, не “спрашивают” о своих шансах на успех в измеренном поле дискурсивно (и лишь ограниченно) возможного. Понятия города, которые методологически охватывают впечатления от проживаемого и переживаемого городского пространства, можно рассматривать как мосты, которые при благоприятных обстоятельствах заставляют нас делать те “прыжки”, которые, по Хайдеггеру, приводят к тому, чтобы задуматься о том, что требует обдумывания. В буквальном смысле именно выражения переводят путем синестезий чувственное переживание города в обдумывание города и городского. Выражения, которые описывают ситуации витального переживания, не следуют языковым рутинам, терминологически признанным так называемым “сообществом” той или иной дисциплины и выглаженным в аэродинамической трубе мейнстрима.
При погружении в осмысление проживаемого города создается перспектива, в которой объект урбанистики появляется как бы “изнутри”. Точка зрения личной затронутости заставляет обращать внимание на связку, которая в новой феноменологии Германа Шмитца называется внутренне диффузной, “хаотично многообразной целостностью”. Такая внутренняя диффузность возникает из-за личной затронутости – ситуации, в которой больше связано вместе, чем разделено. Научно разделенные пути приближения к объекту “город” представляют собой акт двойной абстракции. Происходит разделение между субъектом здесь и (живыми и мертвыми) физическими телами в физическом пространстве города, а также символическими шифрами в социальном пространстве города там. Однако научная абстракция есть не только (положительный) акт, направленный на повышение различимости с помощью конструирования категорий; она также означает отрицание действительностей, которые находятся в прямой связи с реальностью категориально воспринимаемого и научно анализируемого города. В смысле отношений “фигура-фон” господствующие в социально-экономической географии последних десяти лет парадигмы во имя методологического индивидуализма очерчивают жирными линиями такую герметическую фигуру, что глаз мейнстрима уже почти не различает оттенков фона.
С парадигматической точки зрения феноменологии, нагруженные значениями городские феномены не являются чувственными стимулами, которые в результате образования нейронных цепочек можно реляционно соединять в констелляции фиктивных образований и присвоить им имя “город”. Теперь связующей нитью выступают чувства, вдоль интенциональной линии которых значения образуют те узлы, к которым в ситуациях крепится индивидуальное.
Понимание города как проживаемого пространства всегда имеет две стороны. Одна работает с логикой объектов, а другая – с логикой индивидуального и коллективно-субъективного переживания города. Отнесение к миру реконструкции поддающихся объективации структур, положений, отношений, материальных свойств и культурных значений образует центр социологической методологии, адекватной нынешнему времени. Комплементарное изучение отношений людей (в городском космосе) с собой и с миром – как патических, так и касающихся их расположения – в настоящее время играет весьма скромную роль, и выполняет эту задачу прежде всего феноменология. В общественных науках особенно конструктивизм сузил внимание так, что в него попадают только когнитивные акты создания мира и отнесения к миру. В рамках такого подхода считается, что эпистемологически релевантные объекты – в том числе пространства – методологически доступны для “прочтения” или декодирования средствами семиотики. Сосредоточение внимания на индивидуально или социально созданном достигается ценой того, что другие вещи этот подход не замечает или игнорирует: чтобы убедиться в этом, достаточно одного взгляда на теории познания, пользовавшиеся большим авторитетом в гуманитарных науках лет сто назад[149].
Даже феноменологический дискурс современности не замечает философа Рихарда Мюллера-Фрайенфельса, создавшего в 1920-е гг. философию индивидуальности, в эпистемологическом центре которой – теория иррационализма. Мюллер-Фрайенфельс развивает теории “вчувствования” – прежде всего те, которые разработали Иоганнес Фолькельт (см. Volkelt 1905) и Теодор Липпс (см. Lipps 1903f), – и тем самым ставит эпистемологическую “силу” в центр своей теории, которая отправляется от чувственных ощущений, целостных впечатлений и связанной с ними интуитивной способности человеческого восприятия. То, что Мюллер-Фрайенфельс называет “иррациональным” (в отличие от рациональных операций познания), отличается от современного понимания иррационализма тем, что это иррациональное не считается неполноценной и в дальнейшем требующей рационализации ступенью, предшествующей когнитивному познанию, а рассматривается как антропологическое условие любого