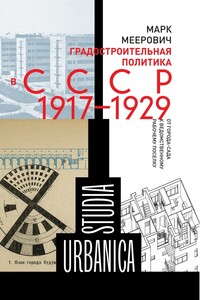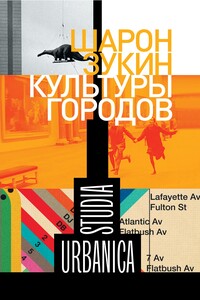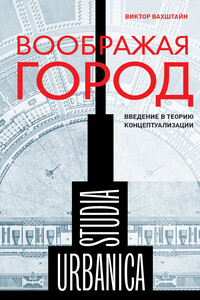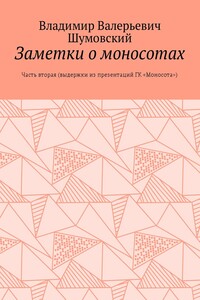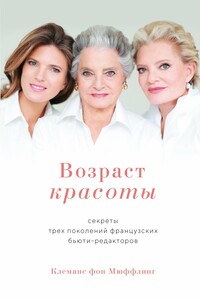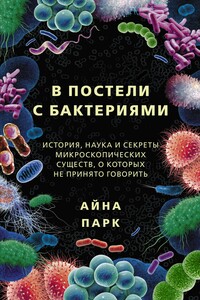2. Докса большого города являет собой как бы фоновую мелодию, которая звучит во всех постановках городской жизни. То, что верно для “города” как объекта социологического знания и что нужно сделать концептуально плодотворным для теории собственной имманентной логики городов, должно быть – в эмпирическом ракурсе – верно для каждого города-“индивида”. Каждый крупный город, гласит наш тезис, порождает свойственное именно ему “естественное отношение” к миру. Каждый крупный город имеет свой локальный фон, предписывает определенное знание о том, “каков мир” и “что как делается”.
3. Индивидуальной или “локально-специфической” эта доксическая связь с местом является в отношении к негороду или к другим городам. Привычные диспозиции, “sense of one’s place”, являются специфичными для места. То, что это “чувство места” подвергается раздражению, что ему бросают вызов, что “навязывается” что-то другое, заставляющее “приспосабливаться”, – совершенно будничный опыт, связанный с любой переменой места.
4. Докса большого города – конструкт, который связан с сетью отношений. Индивидуальный случай внутренне дифференцирован, причем специфичным для каждой позиции образом, но всё же вписывается в некое целое, поддающееся описанию. Как сказал Пьер Бурдье, “у каждого тот Париж (или тот город, где человек живет), который отвечает его экономическому, культурному и социальному капиталу” (Bourdieu 1991: 32). У каждого свой Париж, но у каждого есть Париж, или иначе: Париж всё же остается Парижем.
5. Доксические определенности тематизируются только тогда, когда для них возникает угроза. В момент, когда ему бросают вызов, безмолвный опыт мира остается само собой разумеющимся, но уже не безмолвным: докса трансформируется в ортодоксию. Возникают стили, нарративные структуры, когнитивные схемы, которые теперь утверждаются в качестве легитимных в противоположность какимто другим, нелегитимным, и для которых, следовательно, характерен специфический локальный способ выражения. Теперь наш тезис может быть расширен: каждый крупный город порождает не только особое, свойственное ему естественное отношение к миру, но и особые, свойственные ему и только ему ортодоксии.
6. “Плотность” и “докса” – это те концептуальные рамки, при помощи которых можно описывать индивидуальные гештальты городов и сделать специфические локальные различия между городами полезными для теории “собственной логики городов”. Под “собственной логикой” понимается специфический локальный модус уплотнения застроенной среды, материальных потоков, символических универсумов и институциональных порядков. Можно различить два уровня, на которых она существует. Рассматриваемая концепция на эмпирическом уровне нацелена на анализ исторической, “кумулятивной текстуры” того или иного города и многообразных гомологий, возникающих в этой локальной ткани. А на уровне интенции эпистемологической критики она нацелена на теоретическое приближение к тому, что получило название “урбанизации жизненного мира”.