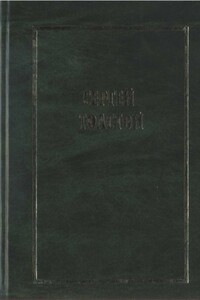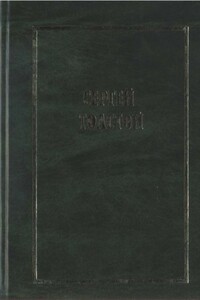В этом искусстве, в этой игре Изабеллы materiam superabat opus[711]. Большой секрет Изабеллы, за которой дурное любопытство всего Рима неотступно следило, шпионило, обшаривало в течение многих лет, открылся бы, может быть, в эти минуты нескромному взору, если бы патетическую и лукавую сцену триумфа Изабеллы и унижения «вдов» могли вынести эти нескромные взоры. Но и того немногого, что просачивалось наружу сквозь откровенность какой-нибудь «вдовы», взволнованной и ошеломленной этой странной игрой, было достаточно, чтобы пролить разоблачающий свет, тусклый и патетический, на сложную и таинственную натуру несчастной Изабеллы.
Вокруг Галеаццо и его двора, раболепного и элегантного, с каждым днем все больше расширялось эта пустыня безразличия, или презрения, или ненависти, которая становилась отныне нравственным пейзажем несчастной Италии. Быть может, и сама Изабелла в какие-то минуты чувствовала, как сужается вокруг нее этот мрачный горизонт, но у нее не было зрения на то, чего она не хотела видеть, поглощенная своей химерической надеждой, сооружением своей великодушной интриги, которая должна была помочь Италии преодолеть страшное испытание — неизбежность поражения, и найти убежище, как новая Андромеда[712] в ласковых руках английского Персея[713]. Постепенно все вокруг неё рушилось. Даже ростом своего тщеславия граф Чиано как бы подчеркивал день ото дня все больше его отрыв от реальной итальянской жизни, подтверждающей то, что Изабелла знала уже давно, что она знала, может быть, только одна: полное отсутствие какого-либо веса Галеаццо в итальянской жизни, его значение, превратившееся в чисто формальное, декоративное. Все это, тем не менее, не вызывало в ней чувств горечи и недоверия, не могло раскрыть ей глаза, не позволяло ей осознать ее фатальную ошибку, а лишь утверждало ее в ее глубокой и великодушной иллюзии и служило новым основанием для ее гордости. Что за важность, если Галеаццо перестал быть человеком сегодняшнего дня, если он был человеком завтрашнего? Изабелла оставалась единственной, кто еще в него верил. Этот молодой человек, любимый богами, этот молодой человек, которого боги, благосклонные и ревнивые, переполнили своими чудесными дарами и осыпали милостями еще более чудесными, — спасет Италию, когда наступит предназначенный для этого день; он унесет ее на своих руках сквозь огонь в великодушное и надежное лоно Великобритании. В своей апостольской миссии она обладала рвением Флоры Макдональд[714].
Ничто не могло поколебать ее иллюзию, что Галеаццо был единственным человеком в Италии, на которого могли рассчитывать английская и американская политика (Лондон и Вашингтон, благодаря ловкой и неутомимой пропаганде Изабеллы в Ватикане, где посол Ее Величества Британии Осборн укрылся перед Святым Престолом с самого начала войны, хорошо знали, какая любовь и какое уважение всего итальянского народа окружали графа Чиано), человеком, которого Лондон и Вашингтон втайне держали про запас для дня, когда настанет время подведения итогов, того дня, который англичане называют: «the morning after the night before»[715]. Ни осторожность влиятельных многочисленных преданных друзей, которых они имели в Ватикане, ни их упорные сомнения, ни их советы, призывающие к умеренности и смирению, ни их покусывание губ и покачивание головами, ни ледяные оговорки английского посла Осборна не были в состоянии вывести Изабеллу из ее заблуждения. Если бы кто-нибудь сказал ей: Галеаццо слишком любим богами, чтобы он мог надеяться на спасение; если бы кто-нибудь открыл ей участь, предназначенную в качестве высшей милости ревнивыми богами тем, кто ими любим всего более, и сказал: участь Галеаццо — послужить агнцем для Муссолини, для ближайшей, неизбежной Пасхи, — нет сомнения, что Изабелла огласила бы залы дворца Колонна своим пронзительным смехом: «Но, мой дорогой, что за идея!» Изабелла, она тоже была слишком любима богами.
В последнее время, когда война начинала показывать свое настоящее лицо, свое таинственное лицо, — нечто вроде печального соучастия установилось между Изабеллой и Галеаццо; оно увлекало их как бессознательная сила, постепенно, ко все более очевидному моральному безразличию, к фатализму, рождающемуся вследствие слишком долгого внутреннего самообмана иллюзиями, а также и взаимного обмана. Закон, который отныне регулировал их взаимоотношения, был тем же самым, который руководил обедами и галантными празднествами во дворце Колонна. Не прустианский закон предместья Сен-Жермен, не закон недавнего Мэйфейра