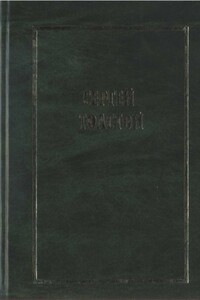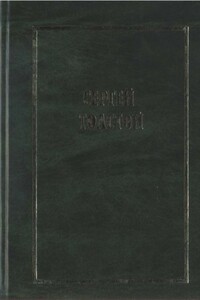Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.5 - страница 173
Но было в них еще нечто удивительное, нечто чистое, чего мне никогда еще не приходилось встречать у немцев. Быть может, то была их животная жестокость, их жестокая невинность, сходная с невинностью животных и детей. Они говорили о войне как о событии древнем, отдаленном во времени, говорили с тайным презрением, с злопамятством, относившимся к насилиям, голоду, разрушениям, избиениям. Они казались удовлетворенными природной жестокостью, как будто их уединенная жизнь в этих нескончаемых лесах, их удаленность от цивилизации, тоска бесконечной полярной ночи, этих долгих месяцев мрака, раздираемого иногда пожарами северных сияний, пытка нескончаемым днем, с солнцем, равно смотрящим днем и ночью в окно с горизонта, — будто все это побуждало их отвергать жестокость, свойственную человеку. Они восприняли безнадежную униженность диких животных, их таинственное чувство смерти. У них были глаза оленей, эти темные, блестящие и глубокие глаза, этот таинственный взор животных, который приобретают глаза мертвецов.
Всего за несколько ночей до этого я вышел из лесов. Я не мог спать. Было больше полуночи. Белое небо обладало удивительной прозрачностью; можно было думать, что оно сделано из шелковой бумаги. Я не видел на нем ни тени облаков; оно было таким ясным, таким прозрачным, что казалось огромным глубоким пространством, нагим и опустелым. Однако, мелкий, невидимый дождь падал с этого ясного неба; он мочил до костей — в листве, в кустах, в светлом ковре лишайников, он слышался музыкальным и очень нежным шепотом. Я углубился в лес и прошел больше мили, когда хриплый голос окликнул меня по-немецки и приказал мне остановиться. Патруль альпенйегеров, с лицами прикрытыми антимоскитными сетками, приблизился ко мне. Это был один из многочисленных патрулей, специально предназначенных для герильи[620] в северных лесах, который прочёсывал их и «тунтурит» районов Ивало и Инари, охотясь за норвежскими и русскими партизанами. Мы сели под защитой нескольких каменных глыб, у огня, вокруг костра, сложенного из мелкого кустарника, куря и разговаривая, под легким дождем, пахнущим смолой. Они сказали мне, что видели следы волчьей стаи. Несколькими днями ранее они уже догадались о присутствии волков по той тревоге, которую обнаруживали оленьи стада. Все эти солдаты были тирольскими или баварскими горцами. Время от времени до нас из глубины леса доносился треск ветвей, хрипловатый крик птицы.
Пока мы беседовали вполголоса (вполголоса, как всегда в этом климате, где голос кажется не свойственным человеку, звучит фальшиво и чуждо, кажется отдельным от человека, полным безнадежности, и это, действительно, голос тайной тоски, которая не имеет иного средства, чтобы себя выразить, себя исчерпать, кроме, как выражая себя в собственной речи, звучащей как ее эхо), мы увидели, как между деревьев, в сотне шагов от нас, бегут рысью несколько животных, похожих на собак, с короткой шерстью, серой, с оттенком ржавого железа. «Волки!» — заговорили солдаты. Волки пробежали мимо нас и смотрели на нас глазами красными и блестящими. Они, казалось, не испытывали к нам никакого страха, никакого недоверия. В этой доверчивости не было, впрочем, и ничего мирного, но, я сказал бы, нечто отсутствующее, что-то вроде благородного и печального безразличия. Они бежали бесшумно, легко и быстро, шагом удлиненным, быстрым и спокойным. В них не было ничего дикого, но они хранили отпечаток благородной скромности, чего-то вроде горделивой и очень жестокой снисходительности. Один из солдат поднял свой автомат, но его товарищ надавил на дуло, обратив его вниз. В этом жесте был отказ, отречение от жестокости, свойственной человеку. Как будто и человек тоже, в этом бесчеловечном одиночестве, не находил иного средства проявить свою человечность, как принимая животность, печальную и мягкую.