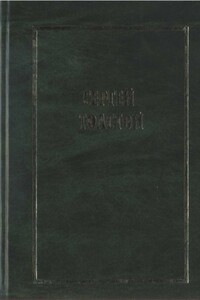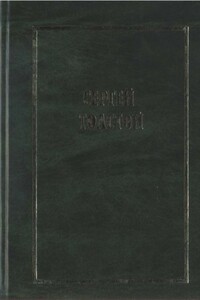— А! Еврейские собаки! Ди юдишен Хунде![418] — говорили, проходя мимо, немецкие солдаты.
Вечерами, когда мы останавливались в деревнях на ночевку (мы находились уже в самом сердце древней территории днепровского казачества) и зажигали огни, чтобы просушить, не снимая ее с себя, нашу намокшую одежду, солдаты потихоньку ругались между собой. Они приветствовали друг друга насмешливым восклицанием: «Айн литер![419]» Они не говорили больше: «Хайль Гитлер!» Они говорили: «Айн литер» — «Один литр!» И они смеялись, протягивая к огню свои распухшие ноги, покрытые белыми пузырями.
Это были первые казачьи селения, которые мы встретили на нашем медленном, утомительном, нескончаемом марше к востоку. Старые бородатые казаки сидели на порогах домов и смотрели на проходящие колонны немецких войск и обозы. Время от времени они смотрели также на небо, слегка искривленное над огромной равниной, это прекрасное небо Украины, нежное и легкое, опертое на горизонте на высокие дорические колонны белых незапятнанных облаков, поднимающихся из глубины пурпурной осенней степи.
«Берлин, раухт Жюно»[420], — говорили солдаты, со смешком бросая старым казакам, сидевшим на порогах домов, пустые пачки от своих последних сигарет «Жионо». Табаку недоставало, и солдаты ругались. «Берлин раухт Жюно», — кричали они с насмешкой. И тогда я вспоминал автобусы и трамваи Берлина, которые несли эту рекламу: «Берлин раухт Жюно!», о лестницах Унтергрундена[421], где реклама: «Берлин раухт Жюно!» была написана красными буквами на всех лестничных маршах. Я думал о берлинской толпе — насупленной, тяжело ступающей, плохо умытой, с лицами пепельного цвета, блестящими от жира и пота, о женщинах, непричесанных, с красными глазами, с распухшими руками, в чулках, заштопанных нитками, о стариках и детях, лица которых яростны и жестки. Среди этой толпы, напуганной и глядящей исподлобья, я видел солдат, приезжавших в отпуск с русского фронта, этих солдат, молчаливых, исхудавших, строгих почти всегда, даже у наиболее молодых — с небольшой плешью или лысиной. Я смотрел на это таинственное белое пятно, которое все расширялось в их глазах, и я думал о Херренфольке[422], о героизме бесполезном, жестоком и безнадежном — Херренфолька: «Аус дем крафткелль Мильх»[423], — говорили солдаты, насмешливо бросая старым казакам, сидящим на порогах домов, свои последние пустые пачки «молока с яйцами Милеи». На этикетках брошенных в грязь коробок было написано: «Аус дем крафткелль Мильх». У меня пробегала дрожь по спине, когда я думал о Херренфольке, о таинственном страхе Херренфолька.
Иногда ночью я удалялся от бивуака или дома меня укрывавшего, уносил с собой одеяла и шел, чтобы вытянуться в поле хлебов, недалеко от лагеря или деревни. Лежа на мокром от дождей жнивье, я ждал рассвета, слушая сквозь сон, как проходят грохочущие обозы, отряды румынской кавалерии, колонны танков. Я слышал раздающиеся голоса, хриплые и грубые, немцев, колючие и веселые голоса румын: «Инаинте, байэзи, инаинте!»[424] Своры бродячих изголодавшихся собак приближались ко мне и обнюхивали, виляя хвостами. Это были маленькие украинские дворняжки, с желтоватой шерстью, красными глазами, кривыми ногами. Нередко одна из таких собачек ложилась возле меня, облизывала мне лицо, и каждый раз, когда чьи-нибудь шаги раздавались неподалеку на тропинке, или от резкого дуновения ветра слегка потрескивала солома, она настораживалась и тихо ворчала. Тогда я говорил песику: «Куш, Дмитрий!» и у меня было такое ощущение, что я говорю с человеком, говорю с русским. Я говорил песику: «Замолчи, Иван», и мне казалось, что я говорю с одним из этих пленных, которые так старались хорошо читать, выдержали испытание и теперь лежали в грязи, с лицами, съеденными негашеной известью, там, вдоль стены, ограждающей двор колхоза, в той деревне, что расположена неподалеку от Немировского.
Однажды ночью я пошел и улегся в поле подсолнечников. Это был действительно настоящий лес подсолнечников, настоящий густой лес. Согнувшиеся на своих высоких мохнатых стеблях со своим большим черным глазом, совсем круглые, с длинными желтыми ресницами, затуманенными сном, подсолнечники спали, опустив головы. Стояла ясная ночь. Небо, полное звезд, сверкало отблесками зелеными и синими, как внутренняя поверхность огромной морской раковины. Я уснул глубоким сном, и на рассвете был разбужен негромким приглушенным потрескиванием. Оно походило на шорох от ног множества людей, осторожно идущих босиком по траве. Я затаил дыхание и прислушался. С соседнего бивуака доносилось слабое чиханье моторов и хриплые голоса, перекликавшиеся в лесу у ручья. Вдали лаяла собака. На краю горизонта солнце, взламывая черную раковину ночи, поднималось, красное и горячее, над равниной, блещущей от росы. Шорох становился необъятным; он рос с минуты на минуту; это было похоже на потрескивание кустарников, охваченных пламенем, на тихий хруст соломы под ногами неисчислимой армии, осторожно крадущейся по жнивью. Вытянувшись на земле и задерживая дыхание, я смотрел, как подсолнечники медленно приподнимают свои желтые ресницы и мало-помалу открывают глаза.