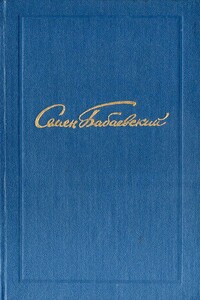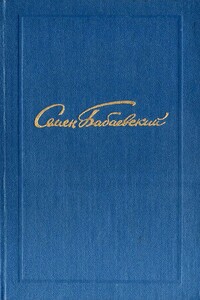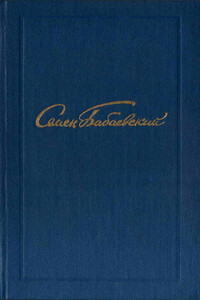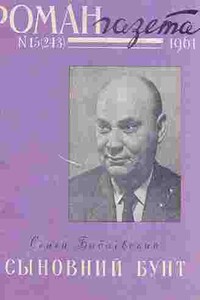— Благодари не меня, а Медянникову, — ответил Холмов. — Это она сделала.
— А кто ее привез?
— И ты, Никитич, смог бы привезти Медянникову. Только надо было захотеть!
— Захотеть — мало, нужен авторитет. — Работников посмотрел на Евгения и Евсеича, взглядом ища у них поддержки. — Без авторитета трудно. Вот ты поехал к Медянниковой и вмиг доставил ее в «Авангард». Одно твое слово…
— Напрасно так думаешь, Никитич, — возразил Холмов. — Медянникова и тебя бы выслушала, и с тобой приехала бы в «Авангард».
— Ну, выпьем, — сказал Работников. — За твое здоровье, Алексей Фомич!
После ужина, когда Холмов лежал возле реки на сложенной из хвороста и сена постели, Работников примостился рядом и сказал:
— Верно, Медянникова — женщина душевная, не то что был у нас Авдеев. И все мы рады, что Авдеева уже нету. Но вот какая штуковина: Авдеева нету, а страх, каким начинил меня Авдеев, остался во мне.
— Какой еще страх? — Холмов приподнялся на локте. — Да ты что? Безвольное существо? Странно рассуждаешь, Никитич!
— Это потому, Фомич, мои слова кажутся странными, что в моих оглоблях ты не ходил. — Работников долго смотрел на черную гладь реки. — Ведь я боялся не за себя, не за свое благополучие. Надо было думать об «Авангарде», о колхозниках. Попервах я схватывался с Авдеевым, смело лез в драку. И получал за это выговора. И строгие, и с занесением, и всякие. Их у меня накопилась целая чертова дюжина.
— Многовато, — сказал Холмов. — Как же удержался на председательском месте?
— Хитростью, — ответил Работников. — Выработал для себя правило: Авдееву не возражать, не противоречить, а делать по возможности то, что надо. Перестал я получать выговора. Сам Авдеев как-то сказал: «Ну что, драчун, усмиряешь свой самонравный характер?» Если бы не эта моя хитрость, то не удержаться бы мне на председательском месте. А мне, честно говоря, не хотелось покидать «Авангард». Думал, придет кто-либо после меня и разорит все, что с таким трудом добыто.
— Но теперь-то, при Медянниковой, положение ведь изменилось?
— Это-то всех нас и радует. — Работников облегченно вздохнул. — В душе затеплилась большая надежда.
Далеко, из-за поворота реки, выкатились два мерцающих огонька, как два волчьих глаза в темноте. Слабым, дрожащим отблеском отражаясь в воде, они двигались по реке. Вот миновали бакен, и он в своей красной шапке лихо заплясал на черной волне. Тяжко гудел мотор, и тягуче плескалась вода в лопастях. На темном фоне рисовался силуэт катерка. Надрываясь, он тянул баржу, нагруженную не то тюками, не то железными бочками. Катерок и баржа проплыли мимо, и вода шумнее заплескалась о берег. Вскоре огоньки скрылись за вербами, и гул мотора, и шум работающих колес стали еле-еле слышными.
Все еще глядя на реку, на побелевший восток, Работников сказал, что вскоре взойдет месяц, что уже поздно, пора спать. С головой, как это делают табунщики, завернулся в бурку и улегся под деревом метрах в трех от Холмова. Лежал тихо, будто его и не было.
Между тем поздний месяц взобрался на верхушки верб. Глядя на побелевшую рощу и прислушиваясь к глухому шороху воды, Холмов думал о том, что видел в «Авангарде» и что рассказал ему Работников, мысленно спрашивая себя, знал ли он жизнь колхозов и колхозников Прикубанья так, как обязан был знать. «А ведь мне по долгу службы надо было бы знать и о том, что творил в районе Авдеев, и о том, как живут колхозники, и о чем думают такие люди, как Работников, — размышлял Холмов, продолжая смотреть на реку. — Только в одном „Авангарде“ столько, оказывается, запутанных узлов и узелков, что распутать их, разобраться в них не так-то просто. И суть дела тут не в том, что я поехал в Береговой и привез Медянникову, а она разрешила выдачу зерна на трудодни. Видимо, суть дела в том, чтобы правильно, глазами таких, как Работников, увидеть и правильно разрешить назревшие вопросы не в одном „Авангарде“. Вернусь из путешествия и сразу же поеду к Проскурову. О многом надо ему рассказать».
Ущербный месяц уже высоко поднялся над вербами. Поясок от него на воде стал широким. Тени от деревьев легли на воду. Белел восток, видимо, рассвет был близок.