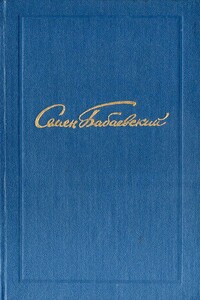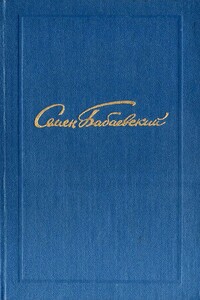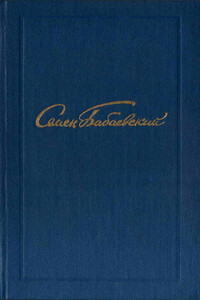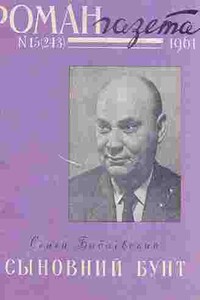И Холмов твердо решил отправиться с Кузьмой в Весленеевскую.
«Но вот вопрос: как и на чем ехать? — думал Холмов. — У Кузьмы свой транспорт — он поедет на коне. А я? Взять машину у Антона? Или попросить Кучмия? Знаю, генерал не отказал бы. Он сам охотно бы поехал со мной на своей „Волге“. Или, наконец, позвонить Проскурову? Тоже не отказал бы в транспорте. Но стоит ли ехать на машине? Получится как-то нехорошо. Я, Холмов, как человек, привыкший к удобствам, умчусь на „Волге“, а мой брат Кузьма будет плестись следом на коне? Нет, так ехать нельзя. А если нанять грузовик? Поставить в кузов Кузьму Крючкова и уехать всем вместе? Но, во-первых, кто даст грузовик для транспортировки одного коня, да к тому же и принадлежащего частному лицу? Никто. Ни одна автоколонна не возьмется за это дело. Во-вторых, как-то неловко мне явиться в казачью станицу, где родился и вырос, с конем, стоящим в кузове грузовика. Осмеют казаки, и правы будут. А что, если пойти пешком? По белому свету? Как ходят туристы. Не спеша, с остановками пройти от Берегового до Весленеевской? Где двигаться на своих двоих, а где поочередно ехать в седле».
«Пешком по земле родимого края… — продолжал думать Холмов. — Что может быть прекраснее? Повстречаюсь и с утренними зорями, и с вечерними закатами, и с людьми, с кем давно уже не встречался. И увижу дали неоглядные. И вспомню молодые годы. И оживут во мне забытые запахи земли, ее тепло и ее ласка. Пойду, обязательно пойду. Или теперь, или уже никогда. Но как объяснить Ольге и Антону? Опять Ольга не поймет меня, как, бывало, многое не понимала. И опять станет искать врача-психиатра и писать слезные письма Проскурову. Да и что скажет Проскуров, когда узнает о моем пешем походе? А, все одно! Пойду! Как говорится, семь бед — один ответ…»
Его решение идти в станицу пешком было твердым и окончательным. Но Кузьме об этом он пока не говорил. Ничего не знала и Ольга. В раздумьях о том, как он будет идти в Весленеевскую, прошла неделя. Кузьма заметно скучал. Во дворе покосил и скормил коню всю траву. Ее оказалось мало. Привозил траву из леса, нагружая оберемками коню на спину. Пора бы Кузьме и в путь-дорогу, а брат так еще и не сказал, поедет в Весленеевскую или не поедет.
На седьмой день, проснувшись в отличном настроении, Холмов за завтраком сказал:
— Братуха! Все будет так, как ты хотел. И не грусти, а сядь и поведай мне ту правдивую историю, что приключилась с Каргиным. Что с ним такое стряслось?
— Это можно, — охотно согласился Кузьма. — Только та история, Алеша, невеселая, и быстро ее не рассказать. Так что наберись терпения.
— Из песни, братуха, слова выбрасывать не положено, — начал свой рассказ Кузьма. — Что было, то и было. И ежели говорить о происшествии, каковое случилось с Каргиным, то никак не можно умолчать про то, как оно зачалось. Через то и не стану обходить место, каковое может показаться тебе стыдливым или непристойным, и скажу: всему виною был Маруськин подол!
— Как подол? — спросил Холмов. — Почему подол?
— Потому, что Маруся подняла свой подол и таким бесстыжим манером преградила путь Каргину. Было это в июне. Кукуруза подросла и просила вторую прополку. По дороге, мимо полольщиц, поднимая пылищу, прошумела «зла». Была у Каргина такая машина чистейшей голубой масти. Ну, пронеслась та «зла» и не остановилась. А через часок пылить обратно. И сызнова не остановилась. Полольщицы помахали платками, а «злы» и след простыл. Через какое-то время мчится обратно, и опять мимо. Маруся сказала своим товаркам: «На обратном пути я его подкараулю». Была Маруся Овчаренкова вдовая, молодая, собой бедовая — и на язычок и на работу. В войну потеряла муженька… Ну, смотрять бабы, пылить «зла». Вот тогда-то Маруся выбежала на дорогу и подняла подол, аж повыше некуда. Что тут делать «зле»? Объехать бессовестную бабочку, свернуть — нельзя: по бокам высокая кукуруза, можно повредить растенья. Пришлось затормозить. Шофер, парень молодой, усмехается, молчить. Из «злы» вышел Степан Каргин. На нем галифе, рубашка под узким пояском, кубанка надвинута на лоб, — и в самый палящий зной кубанку не снимал. Стоить, смотрить на Марусину преграду, усмехается в усы. Недоволен такой задержкой. Щурить глаза, гимнастерку под пояском одергиваеть и на Марусин грех косится… Ну вот, ты уже, братуха, и усмехаешься? И уже не веришь? — обиделся Кузьма. — А я ведь говорю истинную правду. Поезжай в Старо-Конюшенскую и сам спроси, как оно было дело.