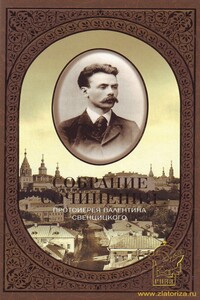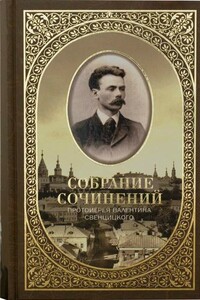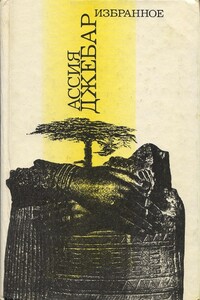Отказываться поднять малую ношу, убить злодея, может только тот, кто чувствует в себе силы поднять большую ношу – простить его>435.
Допустим, даже теперь на земле ещё нет ни одного человека, которой был бы вправе отказываться от защиты мечом на том основании, что ему по силам защита крестом Господним, но мы здесь обсуждаем вопрос принципиально.
Я убеждён, что если бы явился человек, который не механически отказывался бы от спасения сотен людей убийством одного, а потому, что любил и прощал, то в этом человеке явится такая сила духа, которая несравнима ни с какой силой браунинга.
Надо же понять наконец, что убить мучителя и отдать за это жизнь свою – трудно, это требует большой любви, большой силы самопожертвования, но поклониться в ноги своему мучителю, принять в душу свою грех его, простить его всепобеждающей силой прощения труднее вдвое.
Пред нами нет таких примеров, ибо сухое, из принципа, а не из чувства проистекающее непротивленство я не считаю христианским.
Намёк на подлинное прощение ещё можно найти в некоторых художественных произведениях Достоевского, и по этим намекам хоть краешком души прикоснуться к той силе, которая открывается в таком христианском прощении.
Вспомните конец «Идиота» Достоевского, когда князь Мышкин приезжает к Рогожину, эту мучительную сцену с убийцей Настасьи Филипповны. Рогожин подвёл князя к кровати, на которой лежала Настасья Филипповна, покрытая белой простынёй. «Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит, тем ещё мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул. “Выйдем”, – тронул его за руку Рогожин». Князь, не помня себя, расспрашивает о пустяках, о том, играли ли они перед убийством в карты, – он погружён во что-то большое, выше сил человеческих, что подымалось в нём. Покорный, как ребёнок, князь дал уложить себя на постели рядом с убийцей.
«Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил их, и гладил его щёки… больше он ничего не мог сделать! Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечной тоской. Между тем совсем рассвело; наконец он прилёг на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слёзы текли из его глаз на щёки Рогожина, но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слёз и уже не знал ничего о них…»>436
Слабый, немощный организм князя не выдержал – он снова стал идиотом.
Христианский отказ от убийства, носящий в себе высшую степень прощения, – не бездушное, бессильное служение букве евангельской, нет, это живое, пламенное служение высшим целям, которые дают смысл всему и самой этой человеческой жизни. Но если вопрос о христианском отношении к террору и убийству вообще решается в связи с идеей бессмертия в таком абсолютном смысле, то этим ещё не решается вопрос о христианском отношении к убийству, совершённому нехристианами. Этот вопрос должен быть решён иначе.
Один варвар, которому христианский проповедник рассказывал о крестных муках Христа, выхватил меч и воскликнул: «Жаль, что меня не было там!»
Несомненно, этот варвар не воспринимал Божественности Иисуса Христа, ему в Голгофе была доступна лишь поруганная человеческая личность, поруганная человеческая правда.
Но ведь только любовь во Христе, любовь не к смертной личности, а к бессмертной её сущности, может иметь абсолютный характер, и варвар уже тем самым, что он был нехристианином, ограничивал себя известной чертой от этой абсолютной полноты. Но в пределах этой ограниченной сферы, ограниченный самым фактом его нехристианства, варвар, выхвативший меч в защиту поруганной правды, стоял на последней, высшей из доступных ему ступеней, и потому поступок его должен быть назван святым. И если только можно было бы себе представить, что человек, стоя на последней ступени духовного развития, в присутствии Христа мог бы остаться