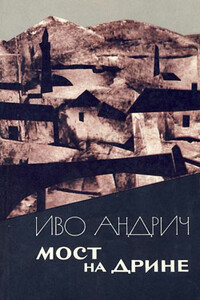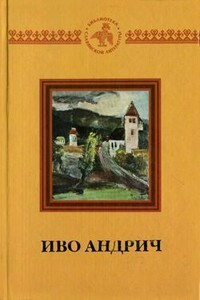Ночи в Вели-Луге теплые и свежие. В мерцающей пряже белого сияния мигают и трепещут низкие звезды. Стоя у окна, Фатима смотрят в ночь. Сладкие, мирные токи разливаются по всему ее телу, заставляя чувствовать в отдельности ноги и бедра, руки и шею, ставшие источником силы и радости, и особенно грудь. Высокая, пышная и тяжелая грудь сосками прикасается к деревянной решетке окна. И девушке кажется, что, вздымаясь и опускаясь вместе со светлым небом и ночным пространством, весь этот цветущий край, с домом, постройками и пашнями, дышит глубоким, размеренно-теплым дыханием. И от этого дыхания исчезает и возникает деревянная решетка окна, исчезает и возникает, касается ее сосков и исчезает, проваливаясь куда-то в бездну, и, снова поднимаясь, касается ее груди и куда-то уплывает вновь; и так попеременно без конца.
Перед ней простирается огромный мир, необозримым и при свете дня, когда вышеградская долина трепещет от зноя и почти ощутимо зреют пшеничные поля; окаймленный цепью черных гор и четкой линией моста, белеет город, рассыпавшийся у зеленой реки. Но ночью, только ночью, в сиянии вспыхнувших небес, человек постигает всю необъятность и безграничную власть вселенной, поглотившей крохотное его существо, растворившееся и отрешенное от самого себя, своих намерений, дел и забот. Только ночью живет он подлинной жизнью, безмятежной, ясной и нескончаемо долгой; только ночь освобождает его от тяготения слов, висящих над ним до могилы, от самоубийственных зароков и безвыходных обстоятельств, неумолимо приближающейся развязкой которых может быть один лишь позор или смерть. Да, ночью жизнь совсем не та, что днем, когда сказанное слово необратимо и зарок неумолим. Здесь все свободно, безгранично, неназванно и немо.
Вдруг откуда-то снизу, как бы издалека, донесся тяжелый, утробный и сдавленный хрип:
— Ааах, кхкхкх! Ааах, кхкхкх!
Это в покое нижнего этажа Авдага борется с приступами ночного кашля.
При этих столь знакомых звуках ей ясно представляется и сам отец, как он сидит и курит, поднятый с постели мучительным кашлем. Она словно видит его большие, так хорошо знакомые ей карие глаза с их теплой глубиной, в точности такие же, как у нее самой, только осененные тенями старости и светящиеся увлажненной слезами улыбкой, глаза, в которых она впервые увидела всю безысходность своей судьбы в тот день, когда ей объявили, что она обещана Хамзичам и должна быть готова через месяц.
— Кха, кха, кха! Ааах!
Недавний восторг перед торжественной красотой и величием ночи мгновенно угас. Прервалось щедрое дыхание земли. Легкая судорога свела девичью грудь. Погасли звезды и пространство. И только судьба, ее судьба, безысходная, горькая, решенная, прядет свои нити, надвигаясь на нее с течением времени в тишине, неподвижности и пустоте, остающейся после всего.
Глухо отозвался кашель снизу.
Да, она видит и слышит его, как будто он здесь, перед ней, ее обожаемый отец, сильный, единственный человек, с которым так сладостно было ощущать свою нерасторжимость с тех самых пор, как она помнила себя. И даже этот тяжкий удушливый кашель она чувствовала всем своим существом. Правда, это его уста сказали «да» после ее «нет». Но она с ним и здесь неразрывна, как и во всем остальном. И его «да» она принимает как свое (так же, как и свое «нет»). Вот почему ей выпала горькая, неотвратимая судьба и почему не видит она выхода из тупика и не может увидеть, раз его нет. Только одно она знает: отцовское «да», которое связывает ее так же, как и ее «нет», приведет ее к кадии рука об руку с Мустай-беговым сыном, ибо невозможно и представить себе, чтобы Авдага Османагич не сдержал слова. Но точно так же знает она и другое, причем с той же ясностью и непреложностью, что вопреки всему нога ее не может ступить в Незуки, ибо тогда она не сдержала бы своего слова. Что, разумеется, тоже невозможно, поскольку и ее слово — слово Османагичей. Здесь, в этой мертвой точке, между своим «нет» и отцовским «да», между Вели-Лугом и Незуками, здесь, в самом центре безысходности, следует искать выход. Вот о чем ее мысли. Ее не занимают больше ни вольные просторы беспредельного мира, ни даже сам путь из Вели-Луга в Незуки, а только короткий отрезок горестной дороги от здания суда, где кадия обвенчает ее с Мустай-беговым сыном, до конца моста и крутого спуска, где начинается узкая каменистая тропа в Незуки, тропа, на которую ее нога, и это совершенно непреложно, не ступит никогда. Этот отрезок дороги мысль ее, подобно снующему по основе челноку, пробегала бессчетно из конца в конец, от здания суда, через торговые ряды и площадь до конца моста, и, отпрянув, как пред бездонной пропастью, снова обратно, через мост, через площадь, через торговые ряды, к суду. Так без конца неутомимый челнок ее мысли ткал ее судьбу.