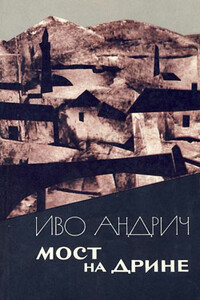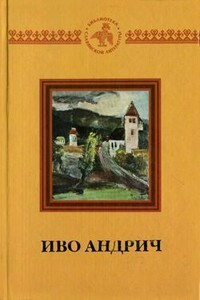Наступает мгновение между днем и ночью. Солнце скрылось. Но яркая вечерняя звезда не взошла еще над вершиной Молевника. В эту минуту, исполненную таинственной прелести, придающей особое значение или угрожающий смысл и величие самым обыденным вещам, первая группа ужицких беженцев вступила на мост.
Мужчины в большинстве своем шли пешком, пыльные и удрученные; на низкорослых лошадках, возвышаясь над сундуками и тюками, тряслись замотанные и осовевшие женщины и малолетние дети. Иные всадники из благородных ехали верхом на добрых лошадях, но тоже погребальной рысью и свесив голову, и только сильнее подчеркивали всю тяжесть непоправимой беды, пригнавшей их сюда. Кое-кто тащил на веревке козу. Другие на руках несли ягнят. И все молчали, даже дети не плакали. В тишине раздавался лишь цокот копыт и топот шагов да монотонный перестук медной и деревянной утвари на перегруженных лошадях.
Появление измученных и лишившихся крова людей погасило веселое оживление в воротах. Пожилые остались сидеть на каменных скамьях. Молодые встали и образовали по обеим сторонам ворот две живые стены; между ними текла вереница изгнанников. Горожане молчали, сочувственно разглядывая переселенцев, а если и пытались обратиться к ним со словами приветствия, желая задержать и угостить, то не удостаивались их внимания и почти не получали ответа. Изгнанники торопились засветло добраться до ночлега.
Всего их было около ста двадцати семейств. Сто с лишним семейств направлялось в Сараево, где надеялось обосноваться, пятнадцать оставалось в городе; в основном это были те, у кого здесь жил кто-нибудь из родни.
И только один человек из этой уставшей толпы, по виду бедняк и бобыль, задержался на минуту в воротах и, вволю напившись воды, принял предложенную цигарку. С головы до ног покрытый белой дорожной пылью, он поблескивал из-под бровей лихорадочно горевшими глазами, перебегая ими с предмета на предмет. Жадно затягиваясь дымом, он озирался вокруг этими своими блестящими, пугающими глазами, не отвечая ни слова на боязливо-участливые и робкие вопросы. Отерев свои длинные усы и кратко поблагодарив за угощение, он с горечью, вызванной крайней усталостью и беззащитностью перед судьбой, проронил несколько слов, глядя на слушателей своим невидящим взглядом.
— Вы тут сидите, прохлаждаетесь, и невдомек вам, что из Станищеваца грядет. Мы-то хоть на турецкую сторону подались, а вот куда вы побежите вместе с нами, когда дело до этого дойдет? Об этом вы знать не знаете и думать не думаете.
Здесь он вдруг умолк. Сказанного было и слишком много для этих минуту назад столь беззаботных людей, и слишком мало для его отчаяния, не позволявшего ему ни молчать, ни выразиться яснее. Он первым прервал тягостное молчание и стал прощаться и благодарить, торопясь догнать ушедших. Вслед ему раздались добрые напутствия и пожелания.
Остаток вечера был безнадежно испорчен. Угрюмые и подавленные завсегдатаи ворот замкнулись в молчании. Даже Чоркан сидел на каменной ступеньке немой и неподвижный. Вокруг него валялись корки от арбузов, которые он ел на спор. Печальный и сникший, сидел он потупившись и как бы не видя каменных плит под собою, рассеянным взором блуждал в неведомых и едва различимых далях. Люди раньше времени разошлись по домам.
Но уже назавтра все пошло по-старому, ибо вышеградцы не любят держать в памяти плохое и предаваться преждевременным волнениям; в их плоть и кровь вошло сознание того, что истинная жизнь заключается в мгновениях тишины, и было бы непозволительным и бесплодным безумием нарушать покой этих редких минут ради поисков другого, несуществующего, устойчивого и прочного бытия.
За двадцать пять лет середины XIX века Сараево дважды посещала чума и один раз холера. При этом Вышеград придерживался правил, которые на случай заразных болезней завещал, согласно преданию, своей духовной пастве сам Магомет: «Не ходите туда, где свирепствует болезнь, вы можете там заразиться; если же болезнь свирепствует у вас, тоже никуда не ходите, ибо можете заразить других». Но так как люди не придерживаются и наиполезнейших установлений, даже когда они исходят от божьего посланника, если только «силой власти» не бывают к этому принуждены, то при каждой вспышке очередного мора власти ограничивали или вовсе прекращали всякое сообщение. И жизнь в воротах снова меняла свои облик. Озабоченные или беспечные, задумчивые или поющие местные обитатели исчезали с балконов, и на опустевшем диване, как во время беспорядков и войн, снова помещались караульные. Они останавливали путников, идущих из Сараева, криками и угрожающими взмахами ружей прогоняя их назад. С крайними мерами предосторожности принималась почта у верховых. В воротах для таких оказий горел небольшой костер из «пахучего дерева», обильно дымивший белым дымом. Стражники брали клещами каждое письмо и окуривали его этим дымом.