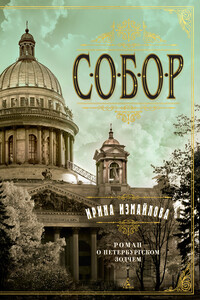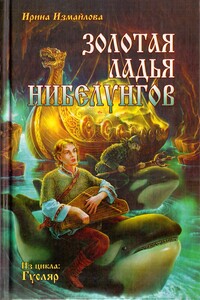Маркиза поблагодарила его, разумеется намекнув, что в случае, если он окажется нескромен, ему придется умолкнуть навеки, затем она подарила ему перстень со своей ручки, попросила отыскать ее парик; сколько было возможно, привела себя в порядок и отправилась к королю. Не знаю уж, что она рассказала его величеству, но на другой день король вызвал к себе берейтора Рикара и, наградив его тысячью пистолей, пожаловал ему потомственное дворянство, однако повелел вернуться из Парижа в Овернь. Ну и как? Интересно тебе было это слушать?
— О, даже очень! — с настоящим восторгом проговорила Элиза. — Как будто из рыцарского романа история. Но ты открыл мне фамильную тайну. Отчего?
— А чтобы ты не ставила между нами стены, моя милая маленькая Лизетта!
И он, поймав ее руку, прижал к губам ее ладонь. Они допили кофе. Девушка вдруг стала серьезна и сидела, задумавшись, молча. Потом Огюст встал из-за столика:
— Мне, увы, пора. Я сегодня опоздаю на службу.
— А ты придешь еще? — спросила Элиза, словно не придавая значения его предыдущим словам.
— Конечно, приду. Если можно, то даже сегодня. И между прочим, через неделю — мой день рождения, и я надеюсь на ваше общество, мадемуазель. Как-никак мне исполнится двадцать семь лет.
Элиза подняла брови:
— Двадцать семь! А мне осенью исполнилось восемнадцать. О, какой же ты старый, Анри!
— Ужасно! — он обнял ее, притянул к себе и утонул лицом в ее волосах. — И как только ты смогла полюбить такого старика? Наверное, ты скоро меня разлюбишь!
— Непременно разлюблю! — пообещала Элиза и, отвечая на его поцелуй, неудержимо расхохоталась.
Минул январь, прошел февраль, наступил март. В последнем отчаянном и бесплодном усилии сохранить империю и свою власть Наполеон спешно собирал новую армию.
Слепо веруя в свою уже угасающую звезду, отвергая с упрямством безумца предложения мира, которыми тогда осыпали его монархи Европы, император готовил для новой бессмысленной бойни пятисоттысячную армию, последнюю армию империи. Полки формировались с необычайной быстротой, но то были не прежние полки — о нет! Нарядные мундиры нелепо и жалко свисали с узких плеч новобранцев, кивера наезжали на лбы, смешно торчали над безусыми, не знавшими бритвы лицами. В армию были призваны уже не восемнадцатилетние юноши, а пятнадцати-шестнадцатилетние подростки.
Это были те самые дни, когда, тщетно пытаясь сломить упорство Наполеона, Меттерних[19] задал ему свой страшный вопрос: «Ну а потом? Когда погибнут эти солдаты? Решитесь ли вы объявить новый набор?»
Извещение о призыве в когорты национальной гвардии Огюст де Монферран встретил внешне спокойно, ибо в душе был к этому готов. Втайне же он испытывал смятение и ужас, но не столько от возможности гибели, сколько от сознания полного крушения своих планов и надежд. Он видел обезлюдевший, опустевший Париж. Он понимал, что сбывается и, увы, сбудется скоро недавнее предсказание Персье и разоренная Франция надолго забудет о храмах и дворцах. Едва родившись, новый мир мог умереть, убитый одним из тех, кто некогда так его защищал…
Полковник Дюбуа, в чье распоряжение поступил сержант Монферран, поручил ему формирование 2-й Версальской роты и распорядился спешно догонять с нею уже выступивший в направлении Дрездена полк.
Огюсту оставалось два-три дня на улаживание своих дел в Париже, да ему, собственно, и нечего было улаживать. Он лишь договорился с Молино о возможном возвращении на службу, простился с родными, вызвав бурные слезы отчаяния у тетушки Жозефины, и последний вечер провел вдвоем с Элизой, перед тем лишь на два часа заглянув к Модюи и поздравив его с тем, что тот, как всегда, благополучно избежал призыва.
К этому времени между Огюстом и Элизой уже произошло несколько ссор. Часто бывая в цирке, он стал ревновать ее ко всем, кто выказывал юной наезднице свое бурное восхищение и поклонение. Его бесило, что она продолжает допускать поклонников в свою уборную, он злился, находя в ее комнате привезенные кем-то цветы. Элиза отшучивалась в ответ на его колкие упреки, иногда пыталась серьезно объяснить ему, что это в жизни цирковой артистки неизбежно, однако он, внешне принимая ее объяснения, в душе злился еще сильнее. Злость его вольно или невольно подогревал Антуан, продолжавший открыто ухаживать за Элизой на правах друга, а порою как бы между прочим рассказывавший Огюсту о посещавших ее кавалерах и о том, сколь любезна она бывает с ними в отсутствие своего любовника.