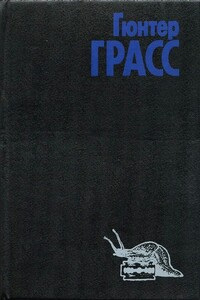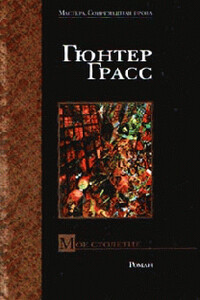Матрен, однако, себя самого даже не слышит. Его душа — ибо и у Скрипуна есть душа — превратилась в ринг, а на ринге идут жестокие схватки. Всю дорогу по Цоссенскому мосту и вдоль Урбанхафен дюжие кетчмены не выпускают друг друга из клинча. Сам черт не разберет, кто там кого хочет бросить на лопатки! Похоже, тут весь род Матернов на ринге собрался — все сплошь богатыри-забияки, высматривают себе достойных противников. Ну что, способен Золоторотик на ринг выйти или слабо? Опять пустился в свои ернические рассуждения и курит свои ернические, все и вся подвергающие сомнению сигареты. Все, что еще недавно из геенны огненной возносилось в однозначно ликующем «верую» — «credo», теперь, возле Адмиральского моста вновь распадается на множестве сипло-блудливых «но» и «если». Нет, видите ли, на свете ничего чистого. И обязательно все святое поставить вверх тормашками, да еще чтоб тормашки всенепременно торчали. Его любимый конек: «Пруссаки вообще и немцы в особенности.» Рассыпается в похвалах, но каких-то гнусненьких похвалах, этому народу, под которым столько выстрадал, до снеговика и после. Так не годится, Золоторотик! Даже если на дворе май и почки лопаются: негоже влюбляться в своих убийц!
Но и его любовь к Германии, если как следует прислушаться, попахивает весьма циничными лаврами, понатасканными из навощенных погребальных венков. Вот, к примеру, какие признания исторгает у него вид берлинского канала Тельтов:
— Ты не поверишь, мне удалось выяснить, что — как это в песне поется? — «от Этша и до Бельта, от Мааса и до Мемеля»[443] выпускалась и выпускается лучшая в мире, самая стойкая, то бишь никогда не блекнущая штемпельная краска.
Уже прежним своим простуженно-сиплым голосом курилка развешивает свои сентенции на когтистые здания вдоль Майбахской набережной. Скачущая по углам губ сигаретка — гвоздь от гроба — говорит вместе с ним:
— Нет, дорогой Вальтер, ты можешь сколько угодно хаять твою великую отчизну — а я вот немцев люблю. Ах, до чего же они таинственны и исполнены богоспасительной забывчивости! Будут подогревать себе гороховый супчик на синем газовом пламени и ни о чем не вспомнят! А кроме того, нигде в мире не делают таких коричневых, таких добротно-мучнистых соусов и подливок, как здесь…
Но когда они доходят до того места, где вяло текущие, но с неукоснительной прямотой канализированные воды раздваиваются — по левую руку они уходят к Восточной гавани, прямо напротив упираются в советский сектор, а направо продолжают течение канала Тельтов — когда они вместе с псом оказываются на этом торжественном месте — ибо напротив них Трептов-парк, монумент Солдату-Освободителю, кто ж его не знает? — Золоторотик позволяет себе высказывание, которое, хотя и вполне достойно данной канальной развилки, влечет за собой много всякой дряни:
— Что верно, то верно: из всякого человека можно со временем сделать птичье пугало; ведь в конце концов, — об этом никогда не следует забывать, — птичье пугало создается по образу и подобию человеческому. Но из всех народов, что живут на земле, так сказать, в качестве птичьепугального арсенала, именно в немцах — даже в еще большей степени, чем в евреях — есть все задатки, чтобы однажды подарить миру этакое всем пугалам пугало, так сказать, прапугало.
Матерн молчит, ни слова не проронит. Птахи, уже проснувшись, и те снова прикидываются спящими. Но скрежет зубовный, такой знакомый, кто ж его сдержит… И ботинок уже беспокойно шарит по гладкой мостовой — как назло, ни камушка. «Ну чем же, чем? Коли голыша нигде? Не носками же и не рубашкой на смену? Бритвенный прибор в этой погорелой халабуде остался. Тогда… Или самому — головой в воду, и в тот сектор. Ведь хотел же, а все еще зачем-то тут торчу. Но лучше… лучше…»
И он уже замахивается от плеча, и в кулаке у него кое-что зажато, о, какая впечатляющая, какая рельефная поза! Золоторотик не нарадуется такой превосходной координации. Плутон напрягся. И Матерн бросает, бросает далеко, что есть мочи — а что же еще? — ну да, тот же самый перочинный нож. То, что не без некоторого сопротивления вернула Висла, он отдает берлинскому каналу Тельтов — как раз в месте его развилки. Но едва перочинный нож с обычным всплеском и, как кажется, безвозвратно исчезает под водой, Золоторотик уже тут как тут со своим дружеским утешением: