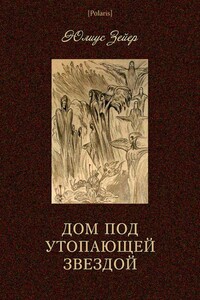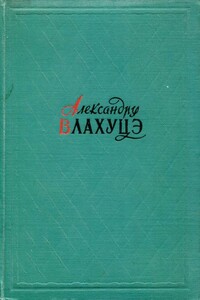Они стояли у них перед глазами, их можно было осязать алчущими руками, и никакие уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность.
Это люди святые, но что общего с их историческими взлетами имеет обыкновенный, средний человек?
Сей герой относительного добра, относительного счастья и относительной правды, немного требует от жизни; мирится с тем, что возможно; за синоним счастья охотно признает удобство.
Его идеалы не слишком возвышенны, а в случае нужды он готов пойти на компромисс: только не добивайте до конца!
Понятно, для этого человека утешения, преподаваемые историей, не кажутся чересчур очевидными.
Он даже готов поверить в историческую победу добра, но процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма.
Самоотверженность не в нравах среднего человека, да ведь она и не обязательна.
Оправдываясь, он непрочь сослаться на ненормальность самоотверженности вообще — и в принципе будет, пожалуй, прав.
И хоть ему можно возразить на это, что в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальными — но ведь это уж порочный круг.
Средний человек не наделен ни будущим, ни прошедшим; он всеми своими помыслами прикован к настоящему и от него одного ждет охранной грамоты на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование.
Программа его скромна и имеет очень мало соприкосновения с блеском и полнотою исторических утешений.
А история, несмотря ни на что, существует.
Существует борьба добра со злом, правды с ложью.
Существует в этой борьбе добро и зло, правда и ложь живут одновременно и рядом.
Только правда никогда не кажется завершившейся, не может быть завершившейся, сама себя ищет и подчас ошибается.
А ложь, какой бы она ни была, попросту бьет — и удары ее без конца падают на среднего человека.
Есть поколения, которые не знали ничего, кроме этих ударов.
Что же тогда остается?
Искать утешения в истории.
59
Милостивый государь, возможно, что это с нашей стороны чрезмерная осторожность, прошу поверить для нас же самих невыразимо печальная, но при нынешнем состоянии славянского вопроса, наблюдая отношение к нему общества, особенно же настроение цензуры, мы не можем.
Ваши взгляды нам чрезвычайно близки, однако накануне интервенции и учитывая ту роль, которую правительство намерено тут сыграть, попытка опубликования повлекла бы несомненно.
Надеюсь, что вы захотите понять и простить.
Еще чего, даже не подумает!
Автор пишет и какое ему дело до наших страхов: он хочет печатать, раз написал — и кто тут мелочен? автор? редактор? публика?
Солдатскими портянками история затыкает нам рты.
Публика кричит ура в честь черногорцев и сербов, кондотьера Черняева называет Гарибальди; цыганский хор с чувством исполняет «Kde domov moj»; миссия по отношению к угнетенным славянам; ребята Черняева грабят белградские магазины; публицисты апеллируют к властям, чтобы они занялись проливами; на Шипке снег; мы очень, очень любим славян — особенно за пределами Империи; даже Елисеев, хоть в Париже новый цилиндр купил, не может удержаться и кричит: ура; четыре дня на побоище; вольноопределяющийся Гаршин, войной сделанный писателем; неосторожный поэт Жемчужников; а я.
Вы хитрец, Михаил Евграфович, градоначальника изобразили, что развлекался изданием законов: настоящим возбраняется делать пироги из грязи, глины и строительных материалов; а цензура пропустила намек.
Да ведь я его выдумал.
Выдумали, выдумали, а тут смотри — в самом деле губернаторам разрешили издавать законы; хитрец; вот вы и пропали — это взятка моя; время теперь военное, ничего не поделаешь.
В ознаменование победы — императорских милостей изобилие; даже нашей редакции старое предостережение сняли; начинается время надежд.
Государь, дай верному народу своему то, что ты даровал болгарам — с адресами к царю обращаются либералы.
Конституцию имеют в виду.
Царь не торопится.
Тайные союзы не верят в облегчение, на Государя охотятся; снова неудачный выстрел; поезд взлетел на воздух, однако не царский; наконец взрыв в столовой, но Александр уже отобедал.