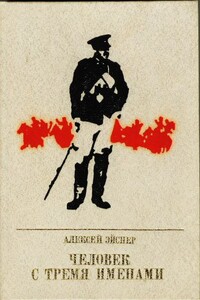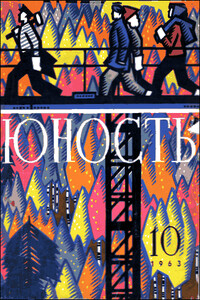Дмитрий Петрович обожал книги. Он гладил рукою корешки, косясь на этого симпатичного бородача, который вторгся в его жизнь так, будто для того и прибыл.
У Сильчевского в горнице сидела за столиком молодая дама. Была она в дорожном платье. Салопчик, подбитый лисою, лежал на лавке под окошком. Там же находились две связки книг. Заичневский поклонился.
И вдруг дама сорвалась, бросилась к нему, обняла, повисла и — расплакалась. Это была младшая Оловенникова!
— Лизанька! — не сказал, простонал Петр Григорьевич, целуя ее мокрое лицо. — Лизанька… Детка моя… И ты… И тебя…
Он ощущал (как бы не впервые в жизни!) слабость, жалость, боль. У него у самого появились слезы, заболело рыданием горло.
— Боже мой… Петр Григорьевич… Я вижу вас…
Она бормотала, брызгая слезами, а он не понимал, что с ним происходит, не желал понимать. Сильчевский смотрел на него удивленно. Вошел ссыльный студент, опешил, даже рот приоткрыл. И вдруг Лизавета Оловенникова так же искренне, как только что рыдала, — отпрянула от Заичневского, рассмеялась звонко, счастливо, отерла личико платочком, протянула руку к студенту:
— Вы еще не знакомы? Это — Андрей, мой жених!
Петр Григорьевич пришел в себя. Что же это было за наваждение?
Выяснилось, что студент просил начальство заменить ему олонецкую ссылку солдатской службой в Финляндии. Начальство не возражало. Елизавета Оловенникова прибыла в Повенец по трем причинам: доставить книги, повидать Заичневского и увезти жениха — мнимого ли, всамделишного, спрашивать не приходилось.
Они уехали с конвойным.
Деликатный Сильчевский, раскуривая длиннющую свою трубку (еле дотягивался до жерла), заметил как бы между прочим:
— Чувства копятся, как тайны в загадочной грозди. Выпить кому предстоит влагу прекрасной лозы?
— Подите вы к черту с вашими самодельными гекзаметрами! — огрызнулся Заичневский. — Займемся делом!
Займемся делом. Конечно, займемся делом. Что еще так мощно воздвигает человека над обстоятельствами?..
Последнее солнце бабьего лета ломилось в окно. Хозяйка, вдова, старообрядка, возилась возле печи — он видел через проем острые локти, старую согнутую спину. Там открылась дверь (вспыхнуло солнце).
— А ты кто будешь? — недружелюбно спросила хозяйка.
Это была Ольга.
Он не удивился. Он не удивился так, будто она всегда находилась рядом, всегда, всю жизнь. Он встал, подошел к ней, положил руки на плечи;
— Как ты доехала, душа моя?
Ольга смотрела на него спокойно:
— Ты здоров?
Хозяйка перекрестилась двоеперстно и вышла.
Ольга приблизилась к нему, услышала сильное ровное сердце.
Вошел человек в поддевке, в суконном картузе, внес баул, понял — не до него, вышел.
Они не виделись восемь лет и ничего не знали друг о друге кроме того, что могли знать все. Он не ждал ее, и она не знала до последнего дня, что так вот возьмет и явится. Но теперь, когда они стояли рядом в повенецкой избе, возле потрескивавшей печи, ни ему, ни ей, ни хозяйке, ни человеку с баулом невозможно было даже представить, что видятся они, в общем, второй раз в жизни.
Суровая хозяйка (плат натянут на лоб) вошла:
— Так и будете стоять посреди избы?
Это было признание, узаконение святого таинства брака. Петр Заичневский прижимал к себе Ольгу.
— Давно не видались, Мелентьевна…
— Муж да жена — одна сатана. Давно не давно — все одно, — сказала хозяйка, понимающе сжав губы гузкою.
Теперь им сделалось весело. Ольга кинулась к баулу, развязала легко ремень, вытащила кашемировый набивной платок, черный с цветами:
— Это вам!
Хозяйка строго приняла дар, сказала:
— Ты бы шубейку сняла… К мужу ить явилась… Ох-хо-хо… Грехи наши тяжкие…
— Какие же грехи! — засмеялся Заичневский.
— А ты помолчь… Помолчь… Бабьей тоски тебе не понять… Детишков, пить дать, нету у вас… Гляди, бабочка, затянешь…
То, что к новому ссыльному явилась жена, известно стало вмиг. Говорили, конечно, отец у нее — генерал, правая рука государя, а вишь как обошлось. Жалеет, конечно, тут и батюшка — не указ. Бабья любовь что смерть — никого не спрашивается. Мелентьевна ходила в новой шали именинницей. И только ссыльные деликатно выжидали до завтра: нельзя же, право, господа, навязываться в часы радости!