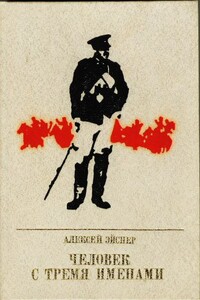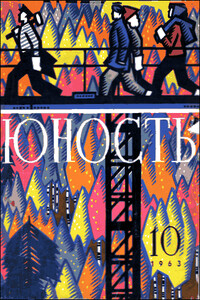— Господа! Вы позабыли, что делает статья Положения, предусматривающая возможность, а точнее сказать — невозможность для крестьянина переменить место жительства! Так я вам напомню! Какие бумаги он обязан иметь, чтобы съехать? Свидетельство об отбытии рекрутской повинности нужно? Свидетельство об уплате недоимок и прочих взысканий нужно? Удовлетворение всех придирок, которые только могут влететь в ленивые головы полиции…
— Да зачем ему съезжать и причем здесь полиция?
— При всем! На полицию возложена совершенно не свойственная ей обязанность взыскания недоимок. Уж эту обязанность наши полицейские чины осуществляют с особенным рвением. Заплати — съедешь! А как? Община — это долговая яма! Мужик привязан к месту силой, страхом, невежеством! Денег у него нет и не будет, — он разорен! Как он расплатится? Чем? Полудохлой коровенкой, которую у него отберут в счет недоимки?
— Крестьянин ленив, — попробовал возразить Шереметев.
— Граф! Я лучше вас знаю, как ленив и дик крестьянин. Но что вы делаете для того, чтобы он хотя бы стронулся со своей дикости? Вы привязали его прочно всеми анафемскими бюрократическими цепями к месту жительства. Добейтесь отмены этой истязательной сто тридцатой статьи! Пусть он идет куда хочет! На новые места, на землю, которой не угрожают дикие переделы. Чего боится правительство? Куда он уйдет в России? Куда можно вообще деваться из России? Дайте ему поднятся на ноги на новом месте, и он заплатит недоимки! Возьмите его в рекруты с того места, где он будет сыт и покоен за свое семейство! Дайте ему правильные кредиты, чтобы он почувствовал себя гражданином! У нас нет крестьянского банка! Как же строить без него хозяйство?
— Господин Заичневский, ваше положение…
— Оставьте вы мое положение! Посмотрите на положение крестьян! Вы излагаете свои благородные жалобы, надеясь на господа бога, который вдруг, ни с того на с сего, снизошлет вам благоденствие! Но покуда в губернии пало тридцать тысяч голов скота, покуда мужик претерпел убытка от непогоды на сто тысяч рублей. Он съел хлеб, который даже еще и не родился! Отпустите мужика на все четыре стороны! Дайте ему возможность отработать свои долги! Не истязайте его инициативу!
Разумеется, можно было и не слушать господина якобинца, можно было просто ошикать его. Но в том-то и штука, что не слушать его было невозможно. Он говорил всегда дело. Подбадривая ли разумение одних, ожесточая ли разумение других, но всегда — дело.
Шестого декабря семьдесят шестого года, на зимнего Николу, в Казанском соборе гремел молебен. Возле памятников Барклаю и Кутузову толпились на несильном морозе небольшие кучки семинаристов, курсисток, мастеровых людей, топтались непонятно — то ли ждали чего-то, то ли медлили войти в храм. Выделялись студенты Медико-хирургической академии и Технологического института— они были на особой примете, ни один беспорядок без них не обходился.
После бурных арестов пропагаторов, ходивших в народ, из провинции в столичные учебные заведения прибывали юноши и барышни обеспеченных классов не столько за наукой, сколько в революционеры. Устраивались коммунами, землячествами, обсуждали нешуточно — имеем ли мы право на высшее образование, когда народные массы неграмотны и коснеют в невежестве? Нужно ли революционеру высшее образование?
Шла война с турками. Панихиды по убиенным в Сербии русским добровольцам возглашались во многих церквах, но непременно к молебну о героях присоединялись молебны о жертвах предварилок все о тех же схваченных за хождение в народ пропагаторах…
А в Казанском соборе перед главным алтарем молились о здравии августейших Николаев. Но на Руси много Николаев и потому от задних рядов, где толпились юноши и барышни, неслись к алтарю полушепотом злорадные подсказки — молимся о здравии узника Николая. И вдруг — негромко, но твердо:
— Товарищи, выходите на площадь…
Говорили, за минуту до этого по Невскому проехал царь. Бог уберег его от столкновения с толпою, которая заварилась вмиг — с Садовой, с Невского, из храма — слушать высокого молодого человека:
— Мы собирались отслужить молебен о здравии Николая Гавриловича Чернышевского!