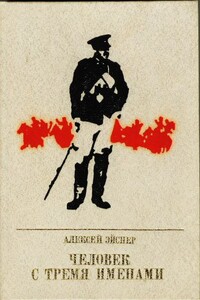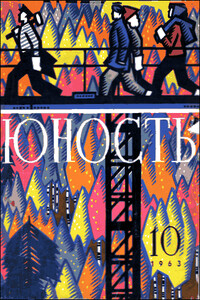Дети Авдотьи Петровны утешали ее все эти дни, но сердце ее испытывало упокоение, только когда приходил Петруша. Жил он здесь же, однако навещал мать, если никого не случалось рядом, утешал молча, присев на скамеечку у ног и положив на колени большую гривастую голову. Авдотья Петровна перебирала перстами каштановые кудри сына с клочьями седины. Слезы наворачивались сами по себе, от щемящей печальной радости, от того, что здесь он, не на каторге, не в ссылке, в дальних краях. Сын поднимал голову, смотрел весело, победно, как будто не видел слез, а видел только улыбку. Кто он был? Отрезанный ломоть? Утеха старости? Она не думала об этом. Она всегда испытывала счастье, видя его.
Как недавно это было!..
…Барышня Надежда Григорьевна в бантиках, в панталончиках, в накрахмаленной розовенькой юбочке, сама розовенькая, танцевала менуэт под придирчивым присмотром француженки своей мадемуазель Клод, проще говоря, Клавдии Карловны. Барышня Александра Григорьевна, положив головку на колени Авдотьи Петровны, бочком смотрела, как пляшет сестрица. Сам рожденник, Николай Григорьевич, сидел на высоком стульчике и тянулся к пирогу, собственно, к двум свечкам, воткнутым в пропеченную корочку. Акулина, горничная девушка, следила, чтобы барчук не обжегся, и сладкая печаль томила ее на слезы. Детки чистенькие, свеженькие, принаряженные ради праздника, барин Григорий Викулович в мундире с орденом, гости веселые (загодя послано было в Орел доставить фряжского, закусок), говорливые окружали стол. Сама барыня восседала в кресле довольная, счастливая — троих произвела и ждала четвертого.
Лето сорок второго года было жарким, влажным. Мужики косили второе сено. Дух его, степной, пряный, витал над Гостиновым. Акулина и сама была в интересном положении, отчего и томила ее сладкая печаль. Но барыня словно не видела, ничего не говорила, а заметно уже было очень.
Вечером, когда детишек уложили спать, а гости разъехались, Акулина бросилась к ножкам:
— Барыня, матушка! Не уберегла себя! Не соблюла! Налетел аки коршун!..
Авдотья Петровна опытным глазом сосчитала: какой там аки коршун на рождество! И сама зарделась бабьим пониманием. Кто б это был аки коршун? И вдруг сообразила: не Сенька ли, отданный за буйство в рекруты? Должно быть, он! Как же убивалась девка, когда его взяли! И не то виною, которую не загладить, не то жалостью, которой не поможешь, уняла барскую свою строгость:
— Встань, Акулина, встань…
Сказать ей — виновата, жалею? Что исправишь? Сенька, когда увозили, горел глазами ненавистно, страшно. Помещица — мать своим крепостным. Как бы не так…
Акулина тяжело поднялась с колен. Почувствовала, что можно и заплакать при барыне. Бабья доля, бабья доля! Производить на свет неведомых человеков — что там с ними будет и как, один бог ведает. Будь ты подневольная, тяглая, будь ты барыня, а назначенье одно. Обе две ждут разрешения, и даром что одна сидит в кресле, другая валяется в ногах.
— Не плачь, Акулина… Подойди…
Никак не могла пересилить себя, сказать— виновата. Да и чем поможешь? Авдотья Петровна протянула руку, погладила по плечу, подумала, сняла перстенек:
— Возьми… Надень… Носи…
И, посмотрев на просторное свое одеяние, зарделась:
— Будешь кормилица…
Вошел человек, доложил:
— Полковник Рыкачев!
— Проси, — приказала Екатерина Михайловна и — удивленно — вдове — Что ему нужно?.. — Пошла навстречу, — Владимир Петрович! Какая неожиданность!
Полковник наклонился к руке:
— Простите мой визит, сударыня… Я был в столице… Право, я весьма опечален… Я не имел чести принадлежать к числу близких друзей Григория Викуловича, но, право же, весьма, весьма…
Явление жандармского полковника вмиг охолодило сердце Авдотьи Петровны: что-нибудь с Петрушей? Но смущение Рыкачева, никак не идущее к нему, вызвало вздох надежды: авось — не к беде. Она протянула руку. Полковник поцеловал руку с почтительным бережением.
Он присел, заговорил о покойнике — Авдотья Петровна не слушала, о чем он говорит, ждала главного, единственного, с чем мог пожаловать Рыкачев, — о Петруше. Внесли кофе, Екатерина Михайловна щебетала о каких-то лошадях, голос ее при этом становился легкомысленно высоким. Рыкачев вспоминал о встречах с Григорием Викуловичем… Авдотья Петровна не понимала, не слушала, она была в полуобмороке. И вдруг полковник цокнул чашечкой о блюдце.