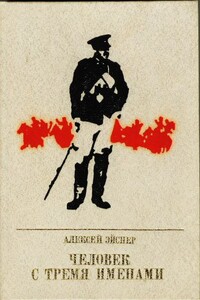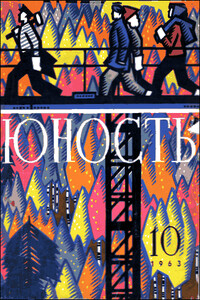Тучноватый человек побледнел, приподнялся и посмотрел в красный угол, где бог, потом сел, полез за пазуху (рука дрожала), вытащил черный кожаный плоский кошель, раскинул надвое, извлек кредитные, пересчитал и подал юродивому:
— Отнеси ей, божий человек… Это меня бес посетил… Спасибо, образумил…
И поклонился.
Юродивый взял деньги, зажал в кулаке и так же, никого не видя, ничего не замечая, ушел на мороз.
В трактире все еще было тихо, но вот скрипнула лавка, тенькнуло штофное стекло, звякнула ложка о миску и вдруг все заговорили:
— Давно его не было.
— Зря не придет.
— Стало быть, надо, ежели явился.
Незнакомых в трактире было двое — Заичневский и доктор Владыкин. Хозяин подошел к ним без зова и пояснил новым людям:
— Святой человек… Ба-альшую силу взял… Митенькою звать… Вы, небось, не здешние, господа?
— Из Сибири! — зычно сказал Заичневский, и хозяин, вмиг сообразив, как надо понимать, спросил:
— На поселение?
Заичневский шевельнул бородою в дальний угол:
— А кто этот?..
Хозяин наклонился почти что к уху, шепнул с пугливым почтением:
— Ба-альшой у нас в Пензе человек… Купец Костырин Иван Тимофеевич… Из него пыткою копейку не вынешь, а тут — так-то… Митенька…
— Лукьяныч! — зашумел купец Костырин, — углевки штоф!
Хозяин кинулся было, но Костырин встал неожиданно, сказал «будет… не надо» и, сунув руки в шубу (лежала на лавке), вышел из трактира, хлопнув дверью.
И тогда уже развеселились все:
— Устыжение!
— Костырин-то, а?
— Сила-то, бртцы, сила!
— А ты хоть лоб расшиби, ничего не достигнешь…
— Я так думаю, — напевно, мечтательно произнес тонкий голос, — ежели, к примеру, явится он к государю императору, отдай, мол, государь император, сирой вдове заместо мужа усопшего живого! Ей-богу, отдаст!
— Жеребец ты и есть жеребец… Бог ведь слышит, ой накажет! Не божись всуе!
Веселье вспыхнуло вдруг. Взлетели слова всякие и непотребные и смех, будто люди, находившиеся в трактире, обрадовались, чуть не возликовали от какой-то путаницы — то ли от того, что сокрушен сам купец Костырин, то ли от того, что пришла охота поглумиться над Митиной святостью.
И вдруг тихий человек (сидел с краю общего стола, лапшу кушал):
— Грех… Кузякину кто разорил?
И повернулся к приезжим, незнакомым людям:
— Дом был веселый… Месцанская вдова Кузякина содерзала… Так он у нее всех девиц увел.
— Всех! — хохотнул было опять на непотребство молодой щербатый парень — из чьих-то молодцов, в жилете с цепочкой.
— Остынь, цорт… Ты примецай, — кивнул на молодца тихий человек. — И нацальство так думало. Искали в лесу, искали… Нашли старинный скит брошенный… Ну, тут-то, думают, и вертеп.
Молодец гоготкул, но тихий человек и не глянул на него:
— И цто? А? Выкуси! — Ткнул кукишем в нос молодца. — Сидят девицы, вязут цулки на продазу, бисером шьют… А Митя писание им цитает…
Рассказ кого притишил, кого и развеселил. Человек этот цокающий — снова в лапшу, будто ничего и не говорил. И снова этот с цепочкой понес непотребство.
Как заметили Заичневский с доктором Владыкиным, рассказ тихого человека был известен всем тут, человеку верили, но мерзкое неприятие чистоты, сидящее в людях, воевало с этим рассказом, огрязняло истину, поворачивало разговор в грязь. И вот, когда веселый гогот, крики заглушили слова, вдруг из пара открытой двери снова появился юродивый. И снова, как в первое его появление, народ в трактире сник, забоялся, притих. Юродивый присел к столу, ни на кого не глядя, и столь же ровно, обыкновенно сказал хозяину:
— Покорми, папанька, Христа ради… Плоть грешна, немощна, а без нее в чем духу-то быть?
Хозяин, бережно ступая в смиренной тишине, пошел за занавеску.
Заичневский подмигнул Владыкину, доктор понял, но не одобрил взглядом намеренье Петра Григорьевича.
— Здравствуй, святой человек, — приветливо, но веселее, чем надо, сказал Заичневский.
Юродивый взял замерзшей рукою из принесенной хозяином миски щепоть капусты, стал жевать, не ответив, и вдруг:
— Разговору ждешь? Ты не разговаривай, ты слушай…
— Слушаю, святой человек…
— Да не меня слушай, дура-голова, душу свою слушай.
— А нету у меня души, — подстрекнул Заичневский.