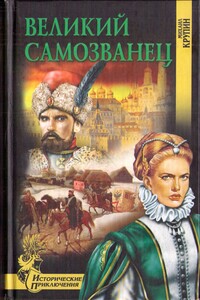Наконец, князь Адам взял его прислуживать в баню, вдруг вспомнил, что нрав и повадки в парильне у голого как-то видней. Отрепьев полагал то же и обрадовался назначению (он уже откупорил на кухне пришедший из Польши бачок с пармезаном и гадал, где ему применить эту вещь: для горячей похлебки или к сладкому сырнику, как внезапно был вызван в парильню).
Адам Александрович уже раздевался в предбаннике.
— Что уставился? — пугнул он представшего повара. — Разоблачайся живей.
Григорий мигом скинул рубаху, исподние штуки и вдруг поймал изумленный взгляд князя. Как мог он забыть!
Князь Адам притянул его за золоченую цепку на шее, стал разглядывать в мелких карбункулах крест, с оборота прочел по-латыни: «Боже, храни наследующего».
Задрожали ресницы, усы… Князь рукой, ослабевшей внезапно, положил крест на место, в середку ключиц.
Дед Адама Александровича земно кланялся юному Иоанну (во время опричнины только отринул московскую службу), но сам Адам Вишневецкий был все же подданным Сигизмунда. Помолчали. Первым нашелся Отрепьев. По трепету княжьих усов он уже угадал, куда дует ветер.
— Что уставился? — изумился слуга господину. — Пойдем, мыльню-то выстудит.
Через полчаса заглянувший в пекло узнать, не надо ли чего, холоп-истопник различил сквозь клубы пара: ясновельможный пан Адам Александрович Вишневецкий, отдуваясь и жмурясь от жгучих брызг, вовсю хлещет березовым веничком нового служку, покрякивающего на полоке. Истопник объяснил сам себя угоревшим и, пройдя на воздух, вылил на голову шайку холодной воды.
Межевые судьи, воротившиеся из Заднепровья в Кремль, снова сетовали Борису Федоровичу на упрямого князя. Вишневецкий теперь, мол, не токмо кивает наследственным правом своим на украйные земли, а вовсе лишившись рассудка, кричит: «Мне Борис не указ!» — у него, мол, гостит настоящий московский царь Дмитрий Иванович, чуть не погибший от рук… нападавших.
Старший дьяк, павший ниц перед царем, колотил по ковру кулаками, показуя свое возмущение паном и тем подзаборником, коего пан приютил, «учинил и на конях, и на колесницах» и в коем он, старший дьяк, сразу узнал бы кремлевского «возвышенного инока», ежели бы не понимал, что этого никак не может быть.
Поначалу Бориса не очень встревожила жалоба на самозванца, пригретого южным магнатом. Но вызванный Иов затрясся, прослушав послов, — будто въяве увидел писца своего, сатанински хохочущего, в ярком убранстве. Принялся убеждать Годунова: Григорий и в монахах был чертом, а скинув рясу, конечно, стал ангелом тьмы. Испуг патриарха передался царю — он припомнил, что этот юнец (если только действительно это Отрепьев) служил прежде опальным Романовым. Не от них ли опять вьется ниточка заговора?
Неужели из мест заключения шлют условные посвисты преданным псам?
Годунов написал Вишневецкому: пусть берет эти спорные береговые местечки, пусть строится там. Он, Борис, царь великий и щедрый, ему дозволяет. Но пускай же за это князь выдаст царю головой окаянного Гришку (который, еще на Москве пребывая, «учал воровати и звать себя Дмитрием», но только такой «деловитый безумник», как князь, мог всерьез воспринять его байки).
Из письма Годунова Вишневецкий сделал один вывод: к нему идет добрая карта, незаконный властитель не в силах скрыть ужаса перед природным.
Князь Адам, сам боясь, что Борисовы ратники сделают вылазку и отобьют «цесаревича», увез его от границы подальше, в дедовский Вишневец.
Славянские распутья. Стежки в воздух
По пресечении династии литвин-Ягеллонов Речь Посполитая решила продолжить практику востребования королей из соседних держав. Воевода венгерский Стефан Баторий, прияв корону Польши, показал, каким благословением и для республики может явиться суровый и мудрый монарх. Гениальный мадьяр, давший Унии[62] европейскую армию и изрядно отделавший воинство Грозного, основал академию в Вильне, исправлял с увлечением календари и суды.
А по смерти Батория королем польским едва не стал московит. На элекционном[63] сейме явилось три партии: одну возглавляли вельможи Зборовские, стояли за эрцгерцога Максимилиана, брата германского императора; канцлер польский и гетман Замойский, лидер второй группы, предлагал пригласить сына шведского короля; третья партия, самая многочисленная, состоявшая по преимуществу из литовско-русских дворян, единодушно высказывалась за государя московского. Посреди сейма выставили три убора: немецкую шляпу, балтийскую сельдь с разинутым ртом и подобие Мономаховой шапки (из жести). Как и следовало ожидать, в эту шапку легло большинство жетонов.