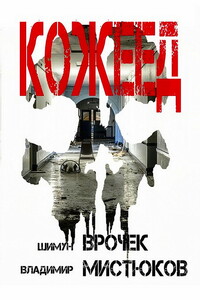Мы опять гуляли в саду, и я опять жевал яблоко.
— Сами в страну деньги не вернутся. Без тех миллиардов, которыми мы кормим западный мир, России не подняться никогда. Если Россия не поднимется, то будущий ядерный хаос просто прекратит жизнь на земле. Делая это… Нет, только стараясь делать это, мы фактически стараемся спасти их. Но суть капитализма, или рынка, так теперь говорят, — стремление к максимальной прибыли. То есть стремление к деньгам. То есть жадность. Один из смертных грехов! Жадность лишает ума. Поэтому Запад и безумен. Поэтому наш патриотизм есть патриотизм общечеловеческий. Но слишком много препятствий, слишком много жадных и глупых людей в самой России…
Я жевал яблоко и наслаждался. Петр Алексеевич вдруг замолчал и посмотрел на меня хмуро. На нем были летние брюки и рубаха навыпуск. В плотном, несколько расплывшемся торсе чувствовалась еще не закончившаяся сила.
— Что молчишь-то все время? — спросил он недовольно. — Молчишь и молчишь.
Я только пожал плечами и сказал:
— А вы меня никогда ни о чем и не спрашивали…
Женщина выпила уже два фужера шампанского, и щеки ее порозовели. Я думал о своем и невольно косился на соседний столик. Она тоже, так мне показалось, посматривает на меня. Красивая соседка склонилась к спутнику и постаралась сказать шепотом, но я услышал:
— Павел, это тоже русский там сидит. — На что небритый мужчина ответил с улыбкой:
— Только русские всех разглядывают. Не смотри ты так на людей в упор. Французы стесняются. Да и какая тебе разница? Ты что — мало русских видела?
— Насмотрелась. — Женщина подняла к лицу фужер и сделала глоток.
С их помощью я понял, почему русского узнаешь всегда. Мы смотрим в лицо, ловим взгляд, а западные люди всегда смотрят мимо.
…У Петра Алексеевича не было необходимости вступать со мной в дискуссии. К тому моменту, как он появился, меня и избили-то всего несколько раз. По его, видимо, распоряжению, я был переведен в одноместную камеру с чистым унитазом и полотенцем на крючке. А после я оказался в клинике, по коридорам которой деловито сновали врачи и медсестры в белых халатах. Там я находился долго и много спал, там я съедал уйму таблеток и терпел уколы. Но лучше укол в задницу, чем ногой по яйцам. Эта простая аксиома не требовала доказательств, а я и не пытался ее оспорить. Я просто спал и видел черное пространство вместо снов. Затем меня и из больницы забрали. Долго везли в фургоне без окошек, целый день. В таких машинах перевозят рояли. Там находилось мягкое кресло, я сидел в кресле и пил херши. Только я собрался от этого херши обоссаться, как мы приехали. Дом отдыха профсоюзных работников! Профсоюзные работники в камуфляже и с акаэмами наперевес носились по стадиону, а в спортивном зале молотили друг друга руками и ногами. И я с ними. Но не так, как они. Я слишком старый. Я — эпилептик. Я уже набегался по горам, а при виде «Калашникова» меня начинает рвать. Но я русский офицер и всегда выполняю приказы.
Однажды вечером, когда профсоюзных работников разогнали по комнатам и замкнули на замки, меня отводят в спортивный зал. Там пахнет дневным потом, там пусто и светло. А посреди зала появился стол. Меня подводят к столу и велят остановиться чуть в сторонке. На столе лежат боевые ножи разных форм и размеров. И два афганских ножа среди них. Один из них — мой. Тот, который остался про запас. Его у меня в Эрмитаже отобрали сразу.
За спиной скрипит дверь и слышны шаги. Петр Алексеевич и еще двое подходят к столу, и Петр Алексеевич начинает сложно объяснять незнакомцам мою историю. Он что-то толкует о философии Востока, но это у него получается не лучшим образом. Ведь слова ограниченны, а чувства бесконечны. Незнакомцы, похоже, высокого звания. У одного седые волнистые волосы и тонкий ястребиный нос, а второй похож на Колобка, выкатившегося из народной сказки, из печки то есть. У второго влажные красные губы и запекшееся от горного загара лицо. Такими лица становились в Афганистане весной.
— Пусть покажет, — кивает Седой.
— Так точно, — отвечает Петр Алексеевич и поворачивается ко мне. — В баскетбольное кольцо, — говорит, а я мотаю головой отрицательно.

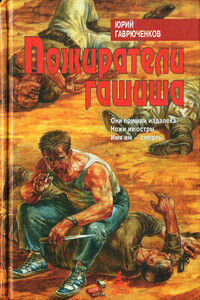

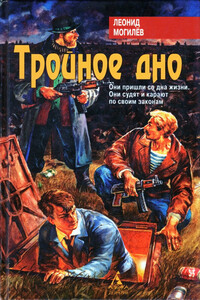

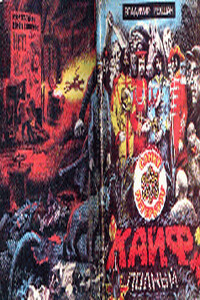


![Дом колдовства [сборник]](/uploads/books/images/b0/b034aaeeccc1379da6d7501134d6f29c00bbfbe2.jpg)