На перекрестке Сен-Мишеля с Сен-Жерменом стоял сенегалец с жаровней и продавал каштаны. На его черном лице читались заботы. Я бы с ним заботами поменялся не глядя. За сенегальцем начиналась высокая ограда, заключавшая в свой квадрат раскопанные римские развалины. Две тысячи лет возле Сены живут люди, едят, гадят, бьют горшки и ломают мебель, асфальтируют теперь дороги, мрут. Раскопанное римское жилье находится на пару метров ниже асфальта. Да и у Сены берега неестественно высокие. Париж вырос на двухтысячелетней помойке. Я помню — это называется культурным слоем.
Бульвар идет вверх. И я иду вверх. Времени у меня пока навалом. Слева я вижу знакомую площадь с чем-то наподобие сквера посредине. За сквером — главное здание Сорбонны, которое, по моему представлению, могло бы быть и значительнее, мощнее, больше соответствовать своему звонкому мировому имени. Но мне в Сорбонну не надо. Я не собирался сидеть на ступеньках с учебником, влюбляться и целоваться, волноваться или устраивать революцию. Я не студент. У меня просто осталось время и под сбитым каблуком начинает ныть парижская мозоль. Нет, я учился. Учился стрелять в Институте физкультуры и изучал педагогический метод Макаренко. Изучил. И что теперь? Что же этот метод сделал со мной? Почему я теперь в Париже, мой сын в Колорадо, а жена с китайцем? Может, она еще и родит китайцу, будет тогда у моего сына родной брат китаец…
Асфальт и камни выметены и вымыты с мылом. Сенегальцы в зеленых рабочих робах подбирают окурки и уносят мусор. А может, и не сенегальцы. Я тяну на себя ручку стеклянной двери и захожу в кафе, сажусь за столик на застекленной террасе. Тут тепло, чисто, уютно, пахнет парфюмерией. Хочется быть туристом или студентом, влюбленным или брошенным, кем угодно хочется быть — поляком, турком, тем же сенегальцем с метлой, — чтобы не быть собой. Но и эта мысль не тревожит, просто возникает в мозгу от нечего делать…
— Бонжур, — доносится до меня, и я поднимаю голову.
— Бонжур, — отвечаю я.
Передо мной стоит дядечка в белом переднике. На нем еще темная рубашка и оранжевый галстук. Щеки и подбородок тщательно побриты. Он смотрит на меня с добродушной улыбкой. Лет ему где-то сорок пять, и я представляю, как он охренел тут пахать, таскать жрачку и считать франки.
— Йес, — говорю я. — То есть уи! Ан кафе. Си ль ву пле.
Официант согласно уходит и скоро возвращается с пластмассовым подносом, на котором дымящаяся чашечка моего «ан кафе». На тарелочке два махоньких кубика сахара. Я кладу их в чашечку и размешиваю. Все у них тут махонькое. Сена — это Обводный канал, не больше. Елисейские поля — кусочек Кировского проспекта. У нас же в Питере если река, то это Нева, текущее море почти. Если мост, так посинеешь его переходить… Делаю глоток. Думаю, потому что мозги не могут не думать. Нет, они могут и не думать, если очень стараться, работать. Но работать лень.
Интересно, на что я похож со стороны? На мне хоть и малайский, но сшитый по европейской моде плащ, зеленый шарф, купленный на прошлой неделе и повязанный на французский манер поверх плаща. На моей голове поношенный берет, а на ногах коричневые ботинки. Брюки на мне вельветовые дорогой фирмы «Поло». Рожа у меня не совсем западная, но и без славянских крайностей — никакой там курносости, нет ямочек на щеках, монгольских скул или веснушек. Можно поляка изображать — только я по-польски знаю лишь слово «пани».
За соседним столиком две лохматые студентки жевали гамбургеры и щебетали. Я смотрел на них, и мне стало вдруг завидно, точнее, мне стало жаль до соленых слез ушедшего времени. В нем, том времени, так и останутся лежать навсегда груды убитых афганцев, старик Учитель покоится с ножом в сердце, Никита… И Никита вместе с ними, вовремя я остановил его… Это опять я начал думать. А когда появляется мысль, то чувству, грусти не остается места. Но я бы хотел, как эти девчушки-студентки, только начать жить. А в начале жизни думать позволительно, поскольку мысль еще и не мысль совсем, а так, ерунда, счастье…
Официант принес счет, и я положил на квадратик счета две монетки по десять франков, которые и были приняты с добродушной, иронической отчасти улыбкой. Положив сдачу, восемь франков, в карман, я поднялся и вышел из кафе. Все те же студенты в джинсах вокруг, и я среди студентов — старый душой эпилептик, русский. По бульвару я поднялся до улицы, соединяющей Пантеон, бело-желтеющий слева колоннами, с Люксембургским садом, до решеток которого было рукой подать. Перекресток оказался бойким в этот предвечерний час: французы, японцы, все те же сенегальцы, машины в несколько рядов, каштаны и жаровни.

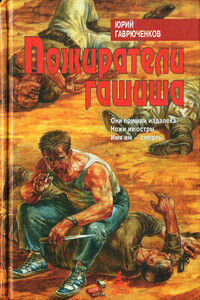

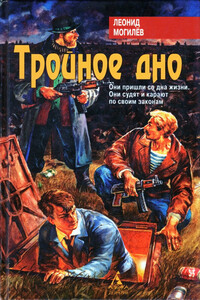

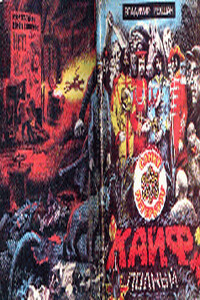


![Дом колдовства [сборник]](/uploads/books/images/b0/b034aaeeccc1379da6d7501134d6f29c00bbfbe2.jpg)


