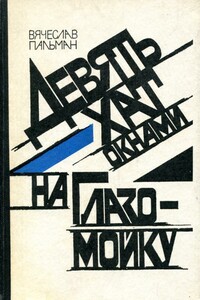— Нет, нет! — с ужасом воскликнул Бутов и поднял руки к лицу, как бы защищаясь. Мимолетный взгляд того, с квадратным лицом, налился тяжестью, как свинцом, стал
неподвижным; взгляд проникал без малейшего усилия через кисти поднятых рук в глаза, а там и внутрь, в самое затаенное. Вспомнились слова Сони: «Да вы просто трус». И еще вспомнилось: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец».
Трус и лжец. Руки сами собой опустились, да и что защищать, когда ты трус и лжец.
С квадратным лицом снова шагал по комнате, управдом не отвлекаясь составлял опись. Когда все окончилось и Бутов вернулся к себе, он прежде всего стал искать спички, чтобы сжечь тетрадку.
Спичек не нашлось. Попросить у соседей? Это могло выглядеть подозрительным. Он закрыл дверь на два оборота ключа, зашторил окно и стал читать тетрадку:
«… Нынешние апокалипсические времена отличаются от предсказанных Иоанном Богословом тем, что охватывают своим пламенем не сразу всю страну, а постепенно, сословие за сословием; семья за семьей объявляется вне закона, «лишними людьми» в каком-то новом страшном смысле. Гумилева расстреливают, сын его и Ахматовой отправляется в лагерь. А Анна Ахматова остается на свободе. Какая это свобода! Некоторые живут, чтобы забыть, другие — один на тысячу, чтобы помнить. Закон режет семьи по живому; такова его воля. Впрочем, слово «закон» совершенно неуместно.
То же происходит и с различными направлениями искусства, научными школами; многое заменяется одним. Вы понимаете меня?» Читая, Бутов словно слышал голос Р., мягкий и непреклонный, пророческий. Вот теперь тоска по учителю сжала сердце. Он был единственным из всех, кого Бутов знал, достойным слов: «Се Человек». Позорное и предательское бегство в университетском коридоре было бегством не только от Р., но и от того неокрепшего, что могло стать человеческим в самом себе.
Бутов читал:
«Все это похоже на опричнину и, может быть, с опричнины и началось. Те, кто объявляются вне права жить, — отделяются от остальной страны стеной, проволокой. Тот, кому это удобнее, может вообразить, что за ней тишина. Кто посмелее, расслышит крики, слова, но искаженные до неузнаваемости. Стена, или нет — ширма, которой в больничной палате отделяют умирающего. Уберут ширму, откроется тщательно заправленная кровать, и нет следа от того, кто тут доживал последние часы. Удивительная тайна и ужас бесследности человеческого существования; даже больше чем самой смерти.
Впрочем, какая же ширма, если стена метровой толщины или проволока — их до срока не сдвинешь никакими силами. Одна половина народа уничтожает другую. Нет, уничтожает именно не половина, а та самая узкая «кучка, идущая по крутому обрыву»; она не сорвется в бездну, ни у кого не хватит умения и сил столкнуть ее. Самое совестливое слово, долг, — теперь не из сердца, подчиняется не внутреннему велению, а всегда давлению извне — всегда как формула насилия.
Сначала стена отделяет дворянство, купечество, духовенство, «кулачество» и всех, кого произвольно к этому сословию приписывают, разночинцев — прежний разум страны, объединив всех ловким словцом «лишенцы». Погибают выработанные у нас дворянством, разночинцами и народным опытом правила этики. Короленко писал, как потрясли его день и час, когда он узнал о казни одного польского повстанца; нам, моему поколению и поколениям младшим, даже вашему, стало естественно спокойно, не ускоряя шагов пройти мимо завалов трупов. Мы — поколения на крови, всё видящие через кровавую завесу. В прошлом дело одного Дрейфуса, одного Бейлиса, маленькой группки вотяков, произвольно осужденных за не совершенное ими ритуальное убийство, возмущали совесть мира. Теперь — вы заметили? — и само слово «совесть» исчезло из обихода.
В двадцатых и первой половине тридцатых годов стена отбросила смертную тень на самые работящие и творческие слои крестьянства. Явственно обозначалось, что сам народ объявлен врагом народа; ведь кто еще, если не крестьянство, — народ в крестьянской России?!
После каждого ареста родные, друзья, знакомые и полузнакомые должны писать «вверх по инстанции», что такой-то репрессирован. Где тут смысл: убийцам сообщать, что убитый ими мертв? Смысл есть: всю страну, все уцелевшее до времени в ней заставить год за годом и день за днем упражняться в предательстве, во лжи, подписывать смертные приговоры, чтобы свойства эти вошли в антропологический состав человека; чтобы закрепилась другая разновидность человеков. Чтобы поставить человека в ситуацию подлости, и так — пока не возникнет в нем соответствующая цепь условных рефлексов. Зажигается лампочка и течет слюна: случилось, выдумано что-то такое — и следует донос; не из выгоды даже, не из карьеры, а так, чтобы не пало подозрение».