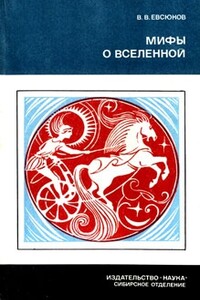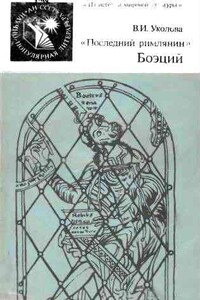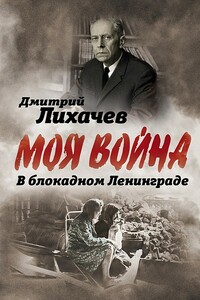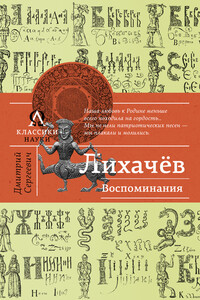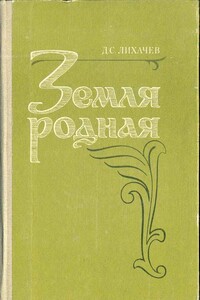"Смеховой мир" Древней Руси - страница 50
Прокопий Устюжский. Деталь пелены 1656 г. «Царевич Димитрий со святыми», строгановское шитье (Русский музей, ДРТ 206).
Василий Блаженный. Икона рубежа XVI–XVII вв., московская школа (Русский музей, ДРЖ 1536).
Но, вообще говоря, ни загадочные выкрики, ни афоризмы, ни рифмованные сентенции еще не создают корпоративного языка. Язык юродивых — это по преимуществу язык жестов (термин «жест» я употребляю в условном значении, подразумевая коммуникативный акт посредством всякого невербального знака — жеста как такового, поступка или предмета). Именно с помощью жеста, который играл такую важную роль в средневековой культуре, и преодолевалось противоречие между принципиальным безмолвием и необходимостью апеллятивного, т. е. рассчитанного на отклик, общения со зрителем. Инвентарь жестов юродивых не составлен, смысл их не истолкован — и легко показать, как и будет сделано в дальнейшем, что он был темен даже для некоторых агиографов. Тем не менее можно утверждать, что поиски в этом направлении не будут безуспешными. Прежде чем перейти к иллюстрациям, необходимо сделать одну существенную оговорку. По всей видимости, нет никакого резона подразделять жесты юродивого на общепонятные жесты-индексы и требующие расшифровки жесты-символы. Как мы сейчас увидим, в зрелище юродства жесты-индексы также приобретают символическое значение. Это вполне естественно, потому что в юродстве важно не только и не столько сообщение (оно может быть банальным), а перевод его в особую систему значений. Таким способом юродивый добивается «обновления» вечных истин.
Выше говорилось, что юродивый провоцирует толпу, плюясь и швыряя в нее каменья и грязь. Но одновременно этот провокативный поступок — театральный жест юродивого, своего рода кинетическая фраза, причем самая распространенная и типичная. Когда скверные женщины затянули к себе Андрея Цареградского и пытались его соблазнить, юродивый «нача плевати часто и портом зая нос свой».[136] Почему он так поступил? Оказывается (так утверждает агиограф), не для того, чтобы оскорбить и обличить грешных блудниц. Андрей Цареградский узрел, что в толпе соблазнительниц стоит смрадный черт, «блудный демон», т. е., по всей видимости, Эрот (дело происходит в среде, причастной традициям античной культуры). Эта сцена опять-таки напоминает о двуплановости юродства. Юродивый ведет себя, как шут (приют блудниц — типичное смеховое пространство), но в то же время преследует дидактические цели.
Прокопий Вятский, грозя кому-нибудь смертью, скрещивал руки на груди: «Руце же свои к персем пригибаше и указанием веляше: „Готовите погребальная“».[137] Когда хлыновские обыватели с трепетом ждали указа из Москвы о взыскании денежных недоимок, «и тогда сей блаженный Прокопий… ходя по торгу и поставляше древца по ряду и ходя бияше те древца древцем же, — аки людей на правеже».[138]
Василий Блаженный, скитаясь по улицам Москвы, задерживался у домов, «в нихже живущии людие живут благоверно и праведно и пекутся о душях своих… и ту блаженный остановляяся, и собираше камение, и по углам того дома меташе, и бияше, и велик звук творяше».[139] Напротив, как заметили изумленные зрители, «егда же минуяше мимо некоего дому, в нем же пиянство и плясание и кощуны содевахуся, и прочия мерзъкая и скаредная дела творяху, ту святой остановляяся, и тому дому углы целоваше и аки с некими беседоваше яже человеком непонятным разговором».
Значение этих загадочных для наблюдателя жестов, оказывается, вот в чем: в дома праведников и благочестивых постников бесовская сила проникнуть никак не может, «бесове внеуду онаго дому по углам вешаются, а внутрь внити не могут», и юродивый, которому дано видеть утаенное от простых очей, их-то и побивает каменьями, «да не запинают стопы праведных». В домах пьяниц, блудников, зернщиков и кощунников бесы ликуют и радуются, «аггели же божии хранители, приставленнии от святаго крещения на соблюдение души человечестей, в том дому во оскверненном быти не могут». Этих-то ангелов, уныло плачущих вне дома, и лобызал Василий Блаженный, с ними он и беседовал «непонятным разговором».