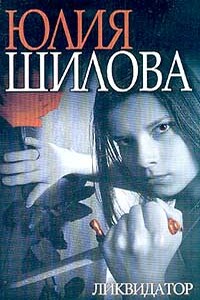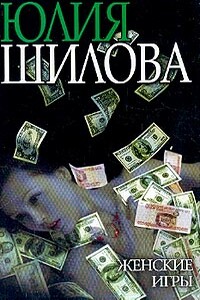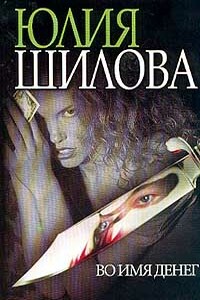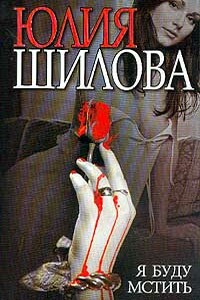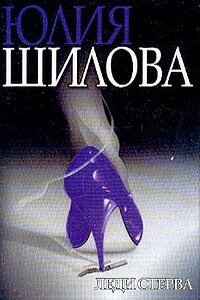Ранней весной мы с мамой наконец покинули Вашингтон и вернулись в Россию. В Пулковском аэропорту нас встретил папа. Хотя нет, «папа» — так, наверное, будет правильнее. Седоволосый подтянутый мужчина в длинном кашемировом пальто. Глаза серые, властные. За спиной два телохранителя. Ну, этот-то точно усомнится в том, что я его дочь… Хотя если это и произойдет, то не здесь, позже. Лицо мое почти полностью прикрыто платком. На обезображенный лоб низко нахлобучена широкополая шляпа, специально купленная мамой для дальнего перелета. По всему видно, разоблачение мне пока не грозит.
Не заезжая домой, мы поехали в госпиталь.
Там меня поджидала отдельная палата-люкс. Холодильник, телевизор, море цветов. Забыв о своем уродстве, я на минуту почувствовала себя счастливой.
— Машенька, кто старое помянет, тому глаз вон, — целуя меня, сказал папа. — Я все для тебя, дочка, сделаю. Заставлю здешних эскулапов вылепить из тебя Галатею. Не сделают — на месте пристрелю!
Кто такая Галатея, я, честно говоря, не знала, но мне все равно было приятно. Меня любили, меня жалели, мне хотели помочь. Ну, не мне — Маше. Но пока я об этом никому не скажу. А может, и не скажу вовсе.
В один из дней, когда мама отлучилась куда-то ненадолго, я попыталась позвонить Максу. Его телефон я помнила наизусть.
— Да, — коротко ответил он и настороженно замолчал.
Я покрепче прижала трубку к уху, стиснув зубы, чтобы не разреветься.
— Простите, вас не слышно, — сказал Макс и отключился.
Говорить я так и не научилась. Хотя уже могла произносить отдельные звуки. Каждый день со мной занимался специально приглашенный логопед. Он ставил передо мной зеркальце и заставлял часами отрабатывать движения губ. Постепенно артикуляция восстановилась. Когда я впервые сказала «мама», растягивая по-детски гласные, моя благодетельница прослезилась.
— Ма-ма, ма-ма, — без конца повторяла я, искренне желая сделать ей приятное. Мне и самой было приятно. Я бы хотела иметь такую маму, как эта милая женщина.
В госпитале мне несколько раз пересаживали донорскую кожу. Какая-то часть отторгалась, и все приходилось начинать сначала, но большая — прижилась. Лицо мое изменилось. Рубцы стали не такими заметными, а некоторые исчезли совсем.
Рот уменьшился, появились губы. Нос стал курносым, как у Маши. Мама часто приносила ее фотографии. По ним меня, наверное, и лепили. Получалось, конечно, не совсем похоже, но — тьфу, тьфу, тьфу — очень даже ничего.
Однажды мама забрала меня на недельку из госпиталя и привезла «домой». Маша жила вместе с родителями в роскошном особняке на берегу Финского залива.
С интересом оглядываясь по сторонам, я поднялась на высокое крыльцо.
— Машенька, девочка моя, наконец-то ты вернулась! — вышел мне навстречу отец. — Ну, иди, дочка, к себе, передохни немного с дороги, а потом будем обедать.
К себе? О Боже!
— Виталик, я провожу Машеньку, — почувствовала мама мое замешательство. — Боюсь, она у нас ничего не помнит. Понимаешь, у нее амнезия, вызванная нервным потрясением. Позже это пройдет.
— Конечно, пройдет! — Папа прижал меня к себе и поцеловал в макушку. — Заплатим кому надо, и все пройдет!
Машина комната была со вкусом обставлена.
Широкая скандинавская кровать посередине, накрытая симпатичным покрывалом. Многочисленные светильники на тросиках, очень удобные в обращении. Мольберт в углу (она рисовала?).
Забавные плюшевые игрушки, расставленные на полках и сидящие на полу.
Раскрыв створки шкафа, я перебрала Машину одежду. Джинсы, свитера, просторные рубашки и блузы — она явно отдавала предпочтение молодежному стилю. Правда, как я поняла, погибшая в Греции девушка была лет, наверное, на пять-шесть, если не больше, моложе меня. Были в шкафу и классические вещи. Костюмы, платья. Очень дорогие и очень красивые. Покопавшись немного, я вытащила длинную бордовую юбку от Армани и такого же цвета кофту с узкими рукавами, застегивающуюся у самого горла, — декольте мне еще долго не носить.