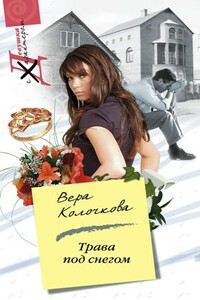Мама, как и следовало ожидать, ей не простила. Нет, не ругалась, просто появилась в ее голосе после ухода дяди Леши особенная какая-то нотка, раздраженно-досадливая. И во взгляде тоже. И все время хотелось руками закрыться от взгляда, от голоса. Сгинуть. Исчезнуть навсегда. А однажды она слышала, как мама жаловалась на кухне соседке тете Лиде, зашедшей «раздавить» на двоих воскресную бутылку красненького:
— Еще ведь хотела аборт сделать, понимаешь, Лид. Тихоня тихоней, а все по-своему постановила, эгоистка. Думаешь, я от нее в старости стакана воды дождусь? Ага, щас. Всю жизнь мою сожрет, не подавится. И мой последний стакан сама выпьет. Волчонок…
— Да не, Ань, зря ты так, — увещевала маму умная и добрая тетя Лида. — Маруська у тебя славная девчонка, только немного нервная. А что молчит все время и волчонком выглядывает… Так она скорее на зайчонка похожа, Ань, чем на волчонка. Вот, ей-богу, уж не наговаривай на девку-то. Ты бы ее лучше врачам показала, психологам там всяким.
— Так уж показывали ее в школе психологу, хватит.
— И что?
— Ну… Дали бумагу, написали ерунды всякой. Я уж не помню сейчас, названия все какие-то мудреные. Да и не верю я… Нас вон никто в детстве по психологам не таскал, и ничего, выросли, живы-здоровы, тянем свой воз. Я думаю, это в ней отцовские гены сидят, малахольные. Он мне, помню, тоже про свои первородные страхи толковал, про тонкую ранимую психику… Однако ж не остановила его психика-то, подлеца! Маруська еще и родиться не успела, как он сбежал! Да ну его, и вспоминать не желаю…
С годами она привыкла к себе, научилась лавировать в предложенных жизненных обстоятельствах. Определять инстинктивно, как больная кошка — здесь выживу, здесь не выживу. Например, если после школы в родном городе останусь, рядом с мамой, в одной квартире, точно не выживу… Хоть и страшно, а надо в другой город ехать, в институт поступать. Впрочем, мама и не против была такого ее решения.
— Давай, давай. Не пропадать же твоему пятерочному аттестату. Может, выползешь из-под материнской-то юбки, самостоятельно жить научишься. Чего опять волчонком глядишь? Мало для тебя мать сделала, да?
— Я нормально на тебя смотрю, мам. Тебе показалось.
— Да я что, не вижу? Другая бы мать в душу лезла или домашней работой по уши загрузила, а я… Сидишь в своей комнате, доченька, и сиди, занимайся уроками, книжки читай. Один бог знает, что у тебя на уме-то, молчунья чертова… Скукожится вечно, зажмется, как в узелок свернется, смотреть тошно. Кто тебя только замуж возьмет, малахольную такую. И не вздумай мне в подоле принести, не приму! С мужем приму, а так — нет, запомни!
С таким наказом и уехала. Поступила в политехнический, на экономический факультет. Конкурс был огромный, но сама для себя пути отступления не видела — не возвращаться же к маме обратно. Уж чего-чего, а испуганного и терпеливого целеполагания в ней образовалось более чем достаточно. Видимо, оно играло роль плетки — надо же было дальше идти, жить как-то… Вернее, бежать, не оглядываясь.
Поселилась в общежитие — пять девчонок в комнате. Дедовщина, как в армии, если по большому гамбургскому счету, то есть «упал, отжался», только в духовном смысле. Ботаницы и тихушницы по углам жмутся, а кто понаглее да посмелее, тот и понукает весело. И это еще поспорить можно, какое «упал, отжался» легче перенести — духовное или физическое. Особенно если у тебя вместо воли — пустое место. И все кругом над твоей душенькой — начальники. Кто сердитый, кто обидчивый, а кто просто злой, от каждого своя плетка прилететь может. Дрыгаешься, трепещешь крылышками, поднявшись над своим же безволием, висишь, балансируешь, как можешь. Нельзя же показать, что ты уродец, не такая, как все! И в ужасе ждешь, когда силы закончатся.
В этот момент в ее жизни и появился Саша, курсант Высшего военного артиллерийского училища. Одно название как звучит — помереть можно! Их, курсантов, однажды целую ораву к ним в общежитие занесло — кто-то из девчонок с прогулки привел. Правда, курсант Саша не очень званию артиллериста соответствовал — хлипковат был по фактуре будущий лейтенантик, бледен и худосочен, будто его недокормили в детстве. Из других опознавательных признаков имел чубчик надо лбом жиденький и белесый, голубые грустные глаза-блюдца и длинную цыплячью шею с острым кадыком, по которой этот кадык перемещался туда-сюда, причем чаще, чем надо, от излишнего волнения. В общем, никаких особых достоинств в нем как бы и не было. Никто из девчонок на него глаз не положил. А она, нечаянно оказавшись с ним рядом, вдруг вдохнула всей грудью — легко, свободно… Впервые за много лет! Ей было хорошо, она его не боялась! Тем более он так на нее смотрел… Будто она самая настоящая была. Смелая и достойная девушка. В которую (о, страшно сказать!) вполне себе можно влюбиться…