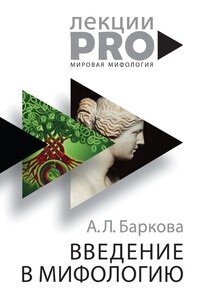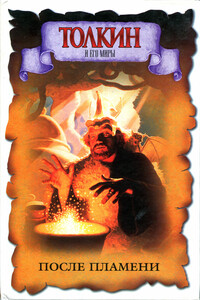Христианская церковь всеми силами боролась против обычая не хоронить «заложных покойников», и в итоге компромиссом между двумя религиями стал Семик – четверг на седьмой неделе после Пасхи. В этот день хоронили в общей могиле всех, кто до того лежал забросанный ветками, – хоронили с молитвами и отпеванием. Также в этот день крестьяне поминали всех родственников, умерших до срока, начиная с младенцев. Церковь пыталась бороться и с обычаем выкапывать труп утопленника или самоубийцы в случае стихийных бедствий, но эта традиция лишь трансформировалась и дожила до конца ХХ века, в чем нас убедила история с трактором.
Термин «навь» когда-то существовал у всех славянских народов и у многих сохранился (у болгар, сербов, словенцев, поляков, украинцев и др.). Болгары дают весьма обстоятельное описание навий: это духи в образе черных птиц, причем лишенных оперения, они летают дождливой, бурной ночью, кричат как голодные ястребы, и от их крика у коров пропадает молоко. Птичий облик навий отмечается и в древнерусском тексте XIII века «О посте к невежам»: там упоминается, что навьи оставляют птичьи следы и копошатся в пепле, как птицы. В таких представлениях нет ничего удивительного, поскольку птичий облик душ (как живого человека, так и умершего) – это универсальный миф, зафиксированный в высоких цивилизациях, начиная с Шумера (мертвые «одеты, как птицы, одеждою перьев», – говорится в «Гильгамеше»); бесписьменные же народы сохранили его в костюмах с оперением или имитацией перьев, а также в ритуалах.
На этом фоне совершенно уникальным выглядит свидетельство из «Повести временных лет» о чуме в Полоцке в 1092 году.
Предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении: ночью стоял топот, что-то стонало, рыскали бесы по улице, словно люди. Если кто выходил из дома, чтобы посмотреть, тотчас невидимо уязвляем бывал бесами и оттого умирал, и никто не осмеливался выходить из дома. Затем начали и днем являться на конях, а не было их видно самих, но видны были коней их копыта; и уязвляли так они людей в Полоцке и в его области. Потому люди и говорили, что это навьи бьют полочан.
Полочане прячутся от «навий» в свои хоромины. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Радзивилловская летопись. Библиотека РАН. (Wikimedia Commons).
Образ конных неупокоенных мертвецов не встречался нам больше нигде.
Страшные сказки
Говоря об упырях и навьях, нельзя не вспомнить две русские сказки (и одну французскую), которые превратились в детские потешки, хотя изначально, вероятно, предназначались для прямо противоположных задач – пугать детей. Современная культура к идее целенаправленно пугать детей относится резко отрицательно, поскольку сегодняшнее общество достаточно мягко и гуманно, ребенку не грозит опасность быть убитым (человеком или зверем) в любой день. В традиционной культуре, где большинство детей не доживали до взрослых лет, страх преследовал цель не «травмировать психику», а помочь выжить, он обучал ребенка распознавать опасность, чтобы суметь спастись. Именно поэтому все народные сказки настолько жуткие, что по сегодняшним законам на них надо ставить метку «18+», хотя изначально они адресовались детям пяти-семи лет, а то и младше.
Одна из страшных сказок, о которой пойдет речь, это… «Колобок». Попробуем прочесть ее по-новому, с учетом наших знаний о неупокоенных мертвецах. Начинается история, как мы помним, с бездетных старика и старухи, живущих чрезвычайно бедно. И если муку на хлеб старуха с трудом наскребает, то соли в их доме явно нет (но имеется корова, потому что есть сметана, на которой замесят Колобка). Почему же у этой пары нет детей? Вернувшись немного назад, к образу хованца и подношениям ему, мы получаем ответ: аборт. Героиня в молодости избавилась от первого нежелательного ребенка, но аборт прошел неудачно, и она стала бесплодной. Невозможность иметь собственных детей побуждает пару создать нечто вроде голема. Как и положено духу нерожденного ребенка, он нуждается в несоленом хлебе и чем-то молочном. Голем сотворен успешно, он оживает и ведет себя как ребенок – убегает из дома.