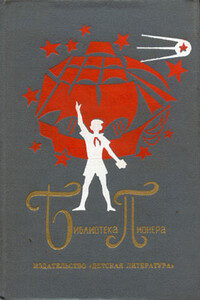Он неодобрительно покосился на хромовые сапоги русского и что-то коротко сказал Вильхо. Мальчуган тотчас оделся и убежал. Вернулся с огромными рыбацкими сапогами, смазанными остро пахнущим рыбьим жиром.
— Отправляться нужно ночью, пока спят женщины, — сказал рыбак, — а то женщина увидит — вся округа узнает.
Вечером он выходил проверять направление ветра и измерял уровень воды. Дул северо-восто-чный ветер силой до четырех баллов, уровень воды в шхерах понижался — понижалась и температура воздуха. «Все идет хорошо», — говорил рыбак.
Профессор и мальчуган сидели на скамейке. Оба что-то мастерили. Гость острым финским ножом «пуку» вырезывал коня из куска сосновой коры. У коня получалась слишком крутая шея, как у шахматной фигуры. Таких коней Владимир Ильич научился резать в ссылке, в селе Шушенском, когда его одолело желание сразиться в шахматы. Мальчик старался подражать профессору и старательно резал кору, но у него получалась фигура, малопохожая на коня.
Время уже было позднее, и Вильхо пошел спать, прижав к себе «настоящего» коня карей масти, подаренного ему профессором. Коробка из-под сигар у мальчугана пополнилась новым сокровищем.
Ночь коротали втроем за чашками остывшего кофе — хозяйка, рыбак и их гость.
Сидели молча. Домик наполнял шум моря, шорох сползающей за волной гальки. Сидели и слушали море, и не слушать его было нельзя, и слушать, ничего не делая, нестерпимо. При сильных порывах ветра со шкафа словно сдувало какой-то чистый и нежный звук.
— Это кантеле поет, — улыбнулась хозяйка, подошла к шкафу и сняла с него музыкальный инструмент, очень похожий на старинные русские гусли.
Она положила кантеле на стол и пальцами, давно потерявшими гибкость, тронула струны. Суровая мелодия вплелась в шум моря, а потом перекрыла собой рокот волн, шуршание гальки и заполнила до краев маленький рыбацкий домик.
— Пора! — сказал Бергман.
Хозяйка осторожно приложила ладони к струнам и погасила звуки.
Владимир Ильич подошел к женщине и крепко пожал ей руку:
— Большое спасибо! Большое спасибо за все!
Скупая улыбка, как зимнее солнце, осветила лицо женщины.
Вильхо лежал на кровати и из-за полога наблюдал за сборами. Вот профессор надел большие рыбацкие сапоги, дядя Вейно подвязывает шарф. Сейчас они уйдут, о нем забыли.
— Жаль, что Вильхо спит, — сказал профессор, лукаво покосившись на полог, из-за которого выглядывал нос и блестевшие от слез глаза мальчугана.
— Нет, не сплю я! — крикнул Вильхо, вскочил с постели и бросился к профессору. — Неужели ты уходишь? Скоро рождество. Я наломаю еловых веток, тетя Тайми сделает из них венок. Ведь сделаешь, тетя Тайми? Да?
— Сделаю, сделаю, иди спать, — отвечала тетка.
— Мы зажжем свечи. Будет рождественская елка. Неужели ты уедешь?
— Ничего не поделаешь, — с огорчением ответил гость. — Я должен быть в Стокгольме до праздников, у меня там срочные дела, весьма срочные.
Профессор попрощался с Вильхо. Бергман открыл дверь, и в кухню с улицы пополз туман.
Ду-у, ду-у — донесся с моря гудок.
Ого-го-го — откликнулся второй.
Это гудели в тумане пароходы, чтобы не наскочить друг на друга и чтобы береглись рыбачьи лодки.
Ду-у, ду-у, ого-го-го — перекликались пароходы.
Тетка Тайми прикрутила лампу, села у окна и, сложив ладони, стала читать молитву.
Вильхо лежал, замерев от страха. Он рос в шхерах и знал, что в такую погоду идти по льду трудно и опасно.
Он подобрался к окну. За стеклами белым дымом клубился туман.
— Тетя Тайми, как же дядя и профессор идут в таком тумане? Ведь и маяка не увидишь.
— Когда у человека великая цель, она ему вместо маяка служит, тогда и туман ему нипочем и ледяную мглу он одолеет, — ответила женщина.
* * *
Суровый край абоские шхеры. Тысячи островов густо разбросаны в Ботническом заливе. Есть среди них острова большие — на них разместились целые поселки, есть и совсем крохотные — трем чайкам на них тесно.
Зимой, покрытые снегом и спаянные между собой льдом, шхеры походят на вздыбленные и застывшие волны.
Мгла окутывала острова. Из открытого моря, с большого фарватера доносились протяжные гудки пароходов. Казалось, заблудившиеся в тумане большие птицы взывали о помощи.