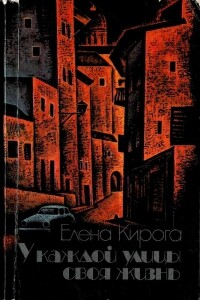— Давай-ка я выбью твою форму на улице, — сказала я, — а то иначе она не просохнет до завтра.
— Нет, — ответил он, — оставь как есть. Мне ее не полагается носить среди фристейтеров. Сойдет и такая, вся перепачканная. Доберусь до Дублина и там уж попытаюсь отыскать свою часть. Сержант будет за меня беспокоиться.
— Будет, уж точно, — сказала я.
— Знаешь, я ведь хороший солдат, — сказал он.
— Хороший, уж точно, — сказала я.
— Я не дезертир какой-нибудь, — прибавил он зачем-то. А мне это и так было понятно.
— Знаешь, — продолжил он, — я ничего такого не имею в виду, ну, то есть я вот тут стою в одних кальсонах и тебя впервые в жизни вижу, но вообще я вернулся в Страндхилл потому, что у меня была тут девчонка, мы с ней сюда ходили — на танцы, конечно, — Вив ее звали, а потом ей наговорили про меня всякого, мол, не стоит со мной водиться, ну и с тех пор я ее не видел. Но мне охота было постоять на берегу, там, где мы с ней, бывало, стояли вместе и глядели на залив. Вот так все просто. А Вив была прехорошенькая, вот правда. И вот я хочу сказать, не имея в виду ничего такого, что красивее тебя я никого не видал на свете, красивее тебя и ее.
Ну что ж, очень милая у него речь вышла. И ничего такого он не имел в виду, разве что только и хотел правду сказать. Внезапно во мне вспыхнула даже какая-то гордость, которой я не чувствовала уж очень давно. Этот мужчина, сам того не зная, говорил как мой отец, когда отец хотел сказать что-то важное.
Была в его словах какая-то чудная старинная пышность, будто бы слова эти взялись из книги, из той самой книги, что я до сих пор хранила и лелеяла, из старого сочинения Томаса Брауна Religio Medici. А ведь этот мальчишка жил в семнадцатом веке, так что я даже не знаю, как такое наречие добралось до Энуса Макналти.
— Я знаю, ты замужем, — сказал он, — а потому прости меня, и ты ведь замужем за моим братом.
— Нет, — ответила я ради самой правды и чтобы потом не передумать, — я не замужем. Или так мне сказали.
— Вот как? — спросил он.
— Нет, — повторила я. — Вот видишь, свой смертный приговор есть и у меня.
И вот он стоит там, и я стою там. Тогда я стала приближаться к нему, тихо-тихо, как мышка, чтобы не спугнуть ненароком, а потом взяла его загрубевшую руку и отвела его в соседнюю комнату, где сову было лучше слышно, а Нокнари лучше видно с убогой пуховой перины.
Потом, позже, мы лежали вдвоем, будто два каменных изваяния на надгробной плите, счастливые, как каждый миг из детства.
— Джек, кажется, говорил мне, что твой отец был в Торговом флоте, — сказал он спустя какое-то время.
— Да, был, — ответила я.
— Как и я, ну и как Джек тоже.
— Вот как?
— Вот так. А еще он говорил, что твой отец служил в старой полиции, верно?
— Это Джек так сказал? — спросила я.
— Да, кажется, он. Любопытно было услышать такое, ведь я и сам там служил. Что в конце концов мне вышло боком. Но тогда-то мы ни о чем не подозревали. Мы, парни Макналти, вроде как подписывались на серьезные дела. Джек вон сейчас в Королевских инженерах. И даже сам малыш Том отправился в Испанию вместе с этим Даффи, вон как.
— С О’Даффи. В Испанию? А я и не знала.
— Верно, с О’Даффи. А ведь я должен был его знать, ведь новую полицию потом он возглавил. Да, Том уехал, как мне сказали.
— И как там у него дела?
— Джек сказал, он вернулся через две недели. Не очень-то Джек верил в то, что Том бросится воевать за Франко. Нет. Ну и, как бы то ни было, а Том вернулся. В полном возмущении. Насовсем распрощался с О’Даффи. Они там сидели в окопах, крысы им ноги жрали, а сам О’Даффи где-то прохлаждался — в Саламанке, наверное. Веселился на всю катушку. Это уж точно.
— Бедняга Том, — сказала я. — Такой у него красивый мундир был и пропал зазря.
— Верно, — сказал Энус. — Так что, получается, отец твой не был в полиции? — спросил он.
— Это что, любовные речи такие? — сказала я, не желая огорчать такого невинного человека. А он все равно засмеялся.
— Ирландские любовные речи, — сказал он. — Одни войны, да на чьей ты стороне и все такое.
И снова засмеялся.
— А когда это все было, ну Испания и прочее? — спросила я.