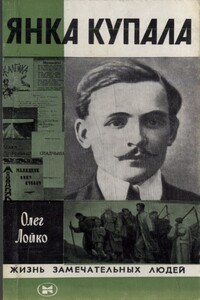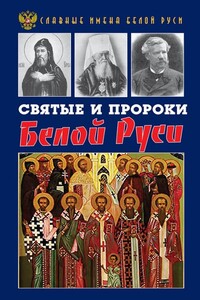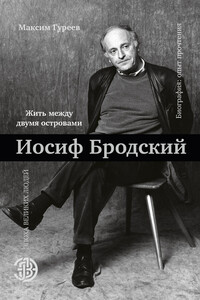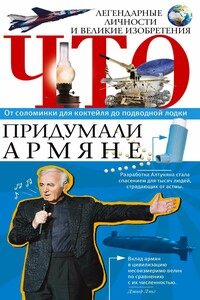Каких же только на купеческих подворьях, на мельницах и в закромах, на воскобойнях и сукновальнях, в клетях и кладовых, в ятках и корчмах не было товаров, полоцкими торговыми людьми на Готский берег и в Новгород, Псков, Москву вывозимых, и каких же там не было товаров, ими с Готского берега, из Новгорода, Пскова и Москвы привозимых! Ведь не одну лишь Западную Двину считали купцы-полочане своей рекой, но и Днепр и Волгу, что в разные концы света растекались из близкого к Полоцку леса. Жито, пшеница, зола, которыми они торговали в Риге и вообще в Ганзе[7], лежали в каморах лаштами[8]; воск грудился камнями-берковесками; мука хранилась мешками; шкурки соболя, куницы, хоря, горностая, белки, выдры держались сороками; масло стояло ведрами, смола — бочками; дубовые клепки высились штабелями; громоздились тюки пеньки и хмеля. Хватало вдосталь и того, что полоцкие купцы привозили со всех четырех стран света: их строения и пристройки были попросту завалены поставами одамашка[9], бархата, атласа, сукна; фунтами сахара, имбиря, гвоздики, мускатного цвета, шафрана; тысячами бутылок и бочками мальвазийского вина и немецкого пива, заморских уксуса и масла; корзинами инжира и изюма; дюжинами топоров и ножей. Много чего из Полоцка вывозили и многое в Полоцк привозили полоцкие купцы, а вот книгами купцы полоцкие похвалиться не могли. Были они столь дорогими, что даже отец Франтишека Скорины вряд ли купил бы книгу высокочтимую. Правда, при желании одну, возможно, и купил бы. Но разве сполна утолить Франтишекову жажду к чтению ему было под силу?
А потому и бегал младший сын Лукаша Скорины на Верхний замок, едва только освоил русскую грамоту, бегал, постигнув со временем и латынь; на Верхнем замке находил он то, чего не было на Нижнем, не было ни в одном из пяти других посадов старинного Полоцка, не было в стенах родительского дома.
Да, там, дома, на берегах Двины и Полоты, начинал он брать и брал, чтоб отдавать, ибо есть на свете только две великие науки: умение брать и умение отдавать, брать душой и отдавать душой. И вот как раз ради того, чтоб было что отдавать, он и покидал свой Полоцк, о котором сейчас думает, — покидал ради Кракова, ради Падуи, теперь вот — ради Праги, покидал, как бы идучи к самому себе нынешнему, стоящему тут, в Праге, возле черного печатного станка. Все в его прошлом словно было направлено сюда и только сюда — в Прагу, как будто воплотилась в нем сама целеустремленность. И настоящая радость охватывает его в этот миг полноты духовной. Но в то же время и страшно тяжела взваленная им на себя ноша. И он облегчает ее, он разгружает свою душу тем, что отдает книжную мудрость люду посполитому, полочанам, отчине своей, как назовет он в предисловиях свою родину, говоря о «любви отчины».
И сейчас он думает не о своем обогащении, не о том, что будет он иметь от продажи Псалтыри, — он думает о людях. Духовно богатый человек не может не поделиться своим богатством с другими, ибо только тогда человек ничем не делится, когда ничего за душой не имеет. Имея, нельзя не делиться; имея, должен делиться, обязан жертвовать, и жертвовать прежде всего собой. Вот это и есть дух духа его, соль соли земной, свет света дневного, солнечного.
Сейчас он в Полоцке из хлопчиков-подростков — таких, каким был сам когда-то, — никого не знает. Но это перво-наперво ради них он тут, в древней чешской Праге, дает свое «повѣлѣние» тиснуть-печатать Псалтырь — тиснуть-печатать в типографии досточтимого Павла Северина велит он этим вот друзьям подручным, что рука об руку с ним, что задерживаются с ним еще и после долгого августовского дня — сумерничают в пражском полумраке возле усталого, как сами они, печатного пресса. В их руки въелась черная типографская краска — не отмывается. Не отмывается она и с его рук. Но если души у людей, замыслы у них светлы, то и руки, хотя и запачканные, разве у них не чисты?! И временный хозяин типографии славного Павла Северина доволен, что краска, которая не отмывается с его рук и рук его челядников, — тоже ведь знак их содружества, их согласия. Здесь он для них «повелитель»? Не только. Он в первую очередь — мастер, и как «повѣлѣнием» его, так и «працею»