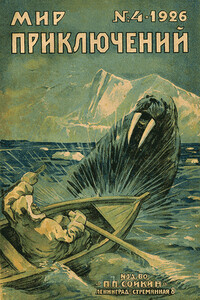Убитых похоронили с честью и, посовещавшись на вече, сговорились, что сидеть теперь на княжении в Смоленске природному русскому князю. Послали в Дорогобуж послов к князю Андрею Димитриевичу. Андрей княжил недолго, против русского князя встала литовская шляхта, послали к королю Казимиру послов просить защиты.
Робкий Андрей Димитриевич вернулся обратно в свою отчину, а на княжение смоляне позвали князя Юрия из Мстиславля. Юрий повернул дело круто. Шляхту и бояр, родом русских, потянувших к Литве, утихомирил. Шляхтичам, досадившим слободским людям грабежами и своевольством — одним велел снять головы, других кинул в тюрьму.
Скоро явилось под городом посланное Казимиром войско. Слободские мужики сели за тыном в осаду. Литва стояла под городом три недели, лезть на крепкий тын королевское войско однако не решилось. Постояло воинство под городом, выжгло до тла слободы, разорило монастыри и с тем ушло.
Осенью нагрянул под Смоленск сам Казимир со многими полками и пушками. Слободские мужики дрались храбро, но устоять против пушек и видавших виды жолнеров не могли. Казимир взял город на щит, многие слободские мужики сложили головы, одни в честном бою, другие в петле у ката. Князь Юрий со своей дружиной ушел в Новгород, а в Смоленске опять стал хозяйничать все тот же ненавистный Андрей Сакович.
Обо всем этом вспоминали кузнецы, собравшись в Олешином дворе на братчину. Олеша хорошо помнил, шел ему тогда пятнадцатый год, мертвое лицо отца, убитого у тына наместничьего замка. Когда стоял Казимир под городом, Олеша вместе с другими парнями и отроками дрался с литвой — поливал горячей смолой жолнеров. Не отстояли Смоленска. Некому было тогда надоумить смоленских мужиков, не Андрея Дорогобужского, не Юрия Мстиславского на княжение звать, а ударить челом московскому великому князю, чтобы взяла Москва искони русский город Смоленск под свою руку. Одной Москве под силу тягаться с поганой литвой. Сказал Олеша братчинникам о том, что думал.
Кузнецы опустили глаза. Были среди них и седобородые, повидавшие много на своем веку, те вздохнули: «Молод Олеша, а правду молвит, опростоволосились смоляне. Не маломощных князьков на княжение надо было звать, у каких всего княжества захудалый городишко, единокровной и единоверной Москве челом бить».
Ждан знал теперь, какую надо петь братчинникам песню, переглянулся с Упадышем. Ватажный атаман взялся за гусли. Скоморохи заиграли песню, ту, что сложил Ждан о Москве, русской земли собирательнице, всем городам городе.
У братчинников на лицах раздумье. Гнетет Литва русских людей, грабят слободских людей наместничьи слуги, стонут в повете от утеснений шляхты мужики-пахари. Слободским людям на наместника, пахарям на шляхту управы искать не у кого. Бояре свои, русские, православные, да король им милостями очи замазал и тянут бояре к Литве. Кинуть бы все, податься на Москву. Да как от родной избы уйти, с обжитого прадедами и дедами места, где лежат в сырой земле родные косточки? Земли все искони русские, Литва обманом их взяла. Сбудется так, как веселые молодцы в песне поют, соберется русская земля под рукой Москвы, сгинет тогда вся вражья сила.
Когда кончили скоморохи песню о Москве, долго молчали кузнецы. Встал старый Емеля, прозвищем Безухий. Оба уха отхватил Емеле кат в тот день, когда король Казимир взял город, и пан Сакович чинил над смолянами суд и расправу. В руке у Емели была чаша, полная пенного меду. Старый кузнец поднял чашу над головой.
— Пусть скорее будет, браты, так, как веселые молодцы в песне пели. Пусть будет Смоленск под московской рукой.
Все братчинники подняли чаши и повторили за Безухим:
— Пусть будет.
Олеша Кольчужник, когда ставил на стол пустую чашу, тихо сказал:
— Под лежачий камень вода не течет.
Братчинники, сидевшие ближе, слышали Олешины слова, поняли, куда гнет молодой хозяин. Емеля Безухий подумал: «Олеша правду молвит, да на братчине о таком деле, когда в голове хмель бродит, говорить не следует».
За беседой и песнями время летело быстро. Шло к закату летнее солнце, золотило на том берегу городские стены, горело на шпиле стрельчатой башни наместничьего замка, на маковках белокаменного собора. Захмелевшие братчинники притомились, порядком угостившись хмельным, примолкли и ватажные товарищи. Ждан хмельного пил меньше других, и был он пьян теперь не медом, а радостью. Припомнил, как мать его Любава, — был он тогда мальчишкой несмышленышем, — часто вздыхала: «Не видать тебе, дитятко, судьбины доброй. Прогневала бабка Кудель рожаниц, не поставила в рожденную ночь каши».