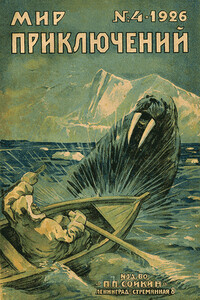— Держи, девка!
Подскочил Сила Хвост, поймал Якушкину кисть, стиснул. Якушко перехватил нож в свободную руку, ударил наотмашь. Сила булькнул горлом, покачнулся, прижимая к груди руку, грузно сел в сугроб. Сваха и девки-подружки охнули:
— Девоньки, уби-и-ил!
Клубника, неловко топчась, приподнял Силу за плечи. Подбежали еще скоморохи, дружки, поезжане и возчики. Голова Силы мертво свешивалась набок и лицо от луны казалось синим. Двинянин потрогал руку, угрюмо выговорил:
— Кончился!
Кто-то из толкавшегося у ворот люда закричал, чтобы вязали Якушку, но и Соловья и его товарищей уже и след простыл. Мертвого Силу внесли в избу, положили под образами на лавку, в изголовье поставили свечи. Вошла за всеми в избу Белява, в лице не видно было кровинки, бессильно опустилась на колени, свадебная фата сбилась на бок, по щекам катились частые слезы. У двери толпились и шептались девки-подружки. Нареченная мать Ириньица хлопотала над мертвецом, сложила на груди руки, прикрыла глаза. Отошла в сторону, поглядела, ладно ли мертвецу лежать, вздохнула:
— Ой, грех! Ладились свадьбу играть, а вместо того надо попа кликать заупокойную править.
Сваха вполголоса говорила девкам-подружкам:
— Грехов на невестушке без числа, как на корове репьев. За невестины грехи бог на чужой душе взыскал.
Белява слышала, что говорила сваха. Она упала на лавку, ударилась головой, заголосила протяжно, навзрыд.
Отпевал Силу тот самый пантелеймоновский поп Мина, который уговорился с Упадышем венчать Ждана с Белявой. На другой день после того, как отнесли Силу на кладбище, пришел Мина в Ириньицыну избу, стал корить Беляву:
— Блудница, ненасытная! Грехов учительница! Твоим тщанием смертоубийство учинилось…
Стоял поп Мина посреди избы длинный и костлявый, широкополый поповский кафтан висел на нем, точно вздетый на жердь, грозил поп пальцем, вертел горбатым носом, фыркал волосатыми ноздрями, сверкал взглядом, стращал Беляву вечным огнем и адскими муками.
Белява сидела на лавке, не смела поднять на Мину сухих глаз, одеревеневшая от горя. И без поповских укоров знала она — великий грех упал на душу. Два раза ходила она на Москву-реку, подходила к проруби, смотрела в темную студеную воду, кажется, шагни шаг — и всем мукам конец. И каждый раз отходила она от проруби. Как наложить на себя руки, когда есть еще на свете ласковый Жданушка. Легла между ними чужая кровь, думать бы только о нем, светике, дни и ночи и того довольно. И сейчас, когда корил и стращал ее поп Мина, чудился ей в мыслях свет-Жданушка.
Поп точно угадал Белявины мысли.
— О Жданке-скоморохе думы кинь. От лица человеческого беги в пустынь. Послушанием и молитвой в келье иноческой грех замолишь.
Голос у Мины, когда заговорил об иноческой келье, сразу подобрел. На прошлой неделе приехала из дальней обители игуменья Феодора, родная попова сестрица, плакалась: «Обитель наша лесная, инокинь всех шесть душ, годами стары, телом немощны, и на поварне стряпать, и обшить стариц, и всякое дело делать некому».
Мина обшарил Беляву взглядом, прикидывал: девка молодая, крепкая, такая, если возьмется, — всякое дело будет в руках гореть, и стариц обошьет, и всякую монастырскую работу справит, лучшей послушницы игуменье Феодоре и не надо. Да и прийдет в обитель не с пустыми руками, в сундуке, должно быть, кое-что припасено. Мина подсел к Беляве на лавку, заговорил уже совсем без гнева:
— О душе твоей пекуся. Мешкать нечего. Станешь под начало игуменьи Феодоры, лучшей наставницы тебе и не надо. А если что — я твой заступник перед Феодорой.
Белява подняла голову, смотрела на попа широко раскрытыми глазами, удивилась, как самой прежде не пришло в голову уйти в монастырь замаливать грех. Увидела себя в смирном монашеском одеянии, показалось — уже слышит ладанный дух и сердцеусладное пение инокинь. Стало вдруг жаль Себя, и не так себя, как его, свет-Жданушку. Если б можно было не в обители, а иначе как-нибудь грех замолить и душу спасти. Не за свою душу страшно, за Ждана. Потешает мил-дружок православных людей скоморошьими играми. А игры, попы твердят, — бесовские. Оба грешны. Оттого и не выпало им счастливой судьбины. А чей грех больше — ее или Ждана — одному богу ведомо. В обители ночей не станет она спать, будет за грешную душеньку мил-дружка молиться, только бы вызволить душеньку его из пламени адова. Одна она за Ждана молельщица. Самому грехов ему не замолить. Когда отпели Силу, и стал поп Мина корить Ждана и увещевать, чтоб бросил скоморошить, в ответ тот и бровью не повел.