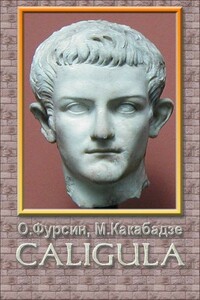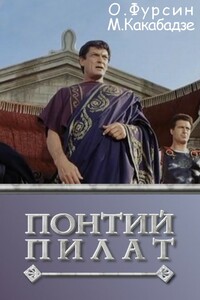И так-то радостно стало на сердце от слов таких мне. Так-то светло…
Не мне одному. Воспаряли мы духом.
Пир честной продолжался.
Разговоры разные вели, даром, что совет большой.
Данила-зодчий с немцем беседовал. На языке чуждом, мне недоступном. Уши только им тереть, языком этим немецким, вот как я доску липовую шкурил, так язык этот уши дерет.
Я и говорю ему, зодчему:
— Данилушка, учи немца энтого по-русски говорить. Может, коль не вовсе дурак, так научится по-людски разговаривать.
Зодчий на меня как на дитя неразумное смотрит, головой качает.
— Ерема, — сказывает, — немец этот человек наиразумнейший, не тебе чета. Ты, мужик, и представить себе не можешь, как он учен и умен. Это ты сдуру сказал. Вообще, сдуру-то мужик русский много чего делает. А немец, он все по уму, в том и разница.
— Сдуру-то оно лучше, Данилушка, — отвечаю. — Вот я жизнь прожил, послушай меня, старого: лучше!
— Чем лучше? — горячится сынок. — Неужель по уму поступать хуже? Врешь, старый; да не подливайте ему больше…
— Данилушка, дурь, она первична. Дурь — это Хаос тот же. С него и жизнь начиналась, с Хаоса. Все после пришло. Все заумности ваши. Они тоже из Хаоса. Значит, вторичны. Сдуру, оно лучше, по-русски…
Так я им и выдал.
Ой, что тут началось! Барин рот разинул. Григорий куском поперхнулся. Отец Адриан прищурил глаз, меня как я ту жабу, разглядывает. А Данилушка смеется, по бедрам себя хлопает, потом ручками разводит, мол, ну ты, Ерема, крестьянский сын, и жук!
Барин, на него глядючи, тоже смеяться начал. Вокруг себя на ножке одной прыгает, орет:
— Философ, ты глянь-ка! Холопы у меня философы, етить твою некуда…
И батюшку сбили с панталыку. Зальется, остановится. Перекрестит лоб, икнет, за пузо схватится, а там смеется снова. Григорий по столу кулаком бьет, вперемешку со всхлипами…
Немца испугали вконец. Трубу свою ухватил. Встанет, обозрит всех, трубу к сердцу прижмет: вдруг учудят что. Сядет. Вскочит опять: не по нутру ему веселье непонятное, дикое. Сядет…
А я что. Я не свои мысли сказываю. Это я Аристотеля из ящика у барина извлек. Точь-в-точь такого же, как в доме у Черта. Читаю вот. Что такого смешного нашли?!
Тут вот, на этом месте бы закончить. Только что же, писать надо.
Гуня меня от веселья отвлек, кот мой сибирский. Откуда и взялся. О ноги трется, мяучит, да как! Во всю Ивановскую. Это уж ором у нас называется, так и запишу: орет.
Я его шуганул, чтоб дал покоя. Он и вовсе взвыл. Что за дела? Смотрит в глаза мне, смотрит, будто сказать что хочет. Говорить нельзя ему, понятно, а я его взгляды примерно так же понимаю, как немецкий. Ну что тут сделаешь!
Тут кот метнулся по шатру. К ящику этому прозрачному, который… тирариум… или… Не знаю, только в нем жаба сидит.
А жабы-то и нет! Барин как закричит, сам трясется весь:
— Аспиды! Куда жабу дели, кто крышку отодвинул! Она ядовитая! Да ее пятерых хватит отравить, коль ее трогать. А то и плюнет, если не понравишься. Ганса она знает, он кормит ее, а вот остальных…
Данила-зодчий бледен стал.
— Да как же не сказать нам было! Если ядовитая… Ведь унылей существа и не встретишь, кажется. Уродлива, в бородавках вся! Сама, кажется, знает, что страшна, как смерть. И праздна. Спит, ест, вот и все ее времяпровождение…
Вот как оно, Тришка. Так, Тришенька, отрок последний наш… Трифон Николаевич…
Закончилось веселье бесовское.
И, будто бы не достало мгновению этому напряжения, в шатер, выдворяемая, ругаемая дворней, вошла-ворвалась Арина.
Не та, что в лесу мороком меня завлекала, а та, что в плате черном, который лицо закрывает большею частью. Бабка и есть.
— Умирает отрок. Все, что могла, сделала. Не знаю я против яда этого средства, не нашенский он, чужеземный. Времени не более часа у нас, может, двух, смотря как сдюжит сын крестьянский. Я ему сказала, что продержавшись, мир спасет. Он и загорелся напоследок. В первый раз и веселым стал, напоследок-то, улыбается. Рад, что пригодился, со смертью своей сражается. Поднимайтесь. В церковь идем. Шаль лиловая, приманка ваша, того и гляди, заработает…
— Зачем ты тут? — раздался голос батюшки.
И было в нем такое, что ожгло ее, ударило больно.