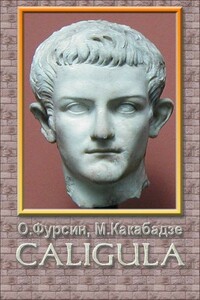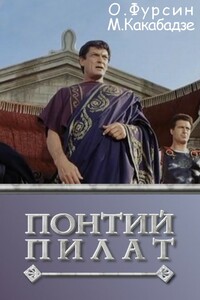— А чего он, матушка, все о том сказывает, какие они, петухи-то? Петух поет — значит, нечистой силе темной пора пришла! Петух поет — на небе к заутрене звонят! Как петухи перестанут петь, так и всему миру конец…
— Опомнись, Николушка, кто с тобой говорит? Петя мой? Это он?
— Он, он! Вот я ему хвост повыдергаю, а он перестанет талдычить: «Николушка, не гордись! Мы, петухи, выше, смотри, я у тебя на крыше!».
И, несмотря на уговоры насмерть перепуганной бабы, поймал Николушка петушка, да и вырвал тому из хвоста перья…
Вот тут и подхватился я. К Даниле-зодчему, а потом в город. Мне бы раньше догадаться, что делать надо. А я, дубина стоеросовая, только и поехал в город за батюшкой в тот несчастливый день…
А ближе к вечеру вот что случилось, сказывают.
Вдова в поле была. Николушка от Данилы-зодчего отпросился, пойду, говорит, неможется мне сегодня. Он уж давно отлынивать начал; давно не работал с душою прежней. И то сказать, с деревенскими перессорился. А работа, она в одиночку-то, с недругами рядом, занятие невеселое.
Видели соседи, как появился Николушка на крыше дома своего. Кричали ему: «Слезай, парень! Ветрено нынче, да и что тебе там?».
А он отвечал, смеясь: «И этому хвост оторву! После слезу!».
Видели, как повернулся петух на ветродуе. Кто-то говорил, что не просто повернулся, а еще и клюнул Николушку в лицо…
И полетел, полетел парень вниз, с руками, распахнутыми, как крылья…
А еще сказывали соседи, что, как упал детинушка, через мгновение оказался с ним рядом Черт. Наклонился над Николушкой, одним движением сорвал с шеи голубую шаль. Бабы клялись потом и божились, что рассмеялся проклятый, проговорил: «Ну вот, будешь жить теперь, доченька!». И исчез, как сквозь землю провалился…
Дальше… дальше все грустней сказ мой, и огорчаюсь, и сокрушаюсь сердцем моим. Но надобно сказывать, и сказываю. Не в этот раз еще одолели мы лукавого. Просил батюшка за Николушку: «Со святыми упокой…». А там уехал в город: много у него прихожан, там крестины, тут венчание, а в третий раз и отпевать кого, и в Храме молебен служить, исповедь принять. Попенял на то, что не заботились мы ранее о главном, похвалил, что взялись за ум и возводим Храм Божий, достойный будущего священнослужителя и нас самих…
Говорили мы о том, что надобно бы изгнание лукавого нам от батюшки для деток. Отвечал он нам:
— Славный подвиг заклинания может быть свершен только с благословения архиерея. Не благоволит он к чину этому, склоняется к запрету. Большой чин изгнания надо в Храме проводить, и для того следует быть нам, священнослужителям, числом семеро. А малый могу и я, и в любом для того месте. Только видел я деток ваших и говорил с ними: не вижу я одержимости в них, да и вы не видите, так о чем просите? Не кликушествуют, в Храм войти не отказываются, не отвергают евангелие и крест, в чем одержимость? Водою святой окропил я их! Обольщаетесь суетной верою, сказки сказываете. И малых сих сбиваете с пути истинного. Ищите чудес у Господа, не в лесу, православные…
Суеверие, оно, конечно, грех наш. Только не прав был батюшка. И все, что случилось с Федором, тому подтверждение.
Дай, Господи, памяти. Зеленая осталась елисеевская шаль у Федора-то от красавицы, чертовой дочки.
Он ее не носил, как Николушка, на шее, к сердцу не прижимал.
Матушка на красоту польстилась. Украсила мужской угол избы, коник[8], развесила ее над лавкой мужниной. Тот смеялся: «В бабий кут[9] тряпку бабскую, аль на рынок. Чай, дорогая, а мы не богаты». Жена отвечала: «Коптиться ей у печи? Довольно, что я уж вся прокоптилась у тебя, возле печи-то, вас, мужиков четверых, пока накормишь; я и сморщилась. Мне не к лицу, так изба помолодеет, зеленой будет».
Ну и ладно. А как ушел кормилец в город, троих мальцов своих приработком городским обрадовать, на лавке у коника и прилег старшой сын, Федор, ночи ночевать.
И стало с парнем неладное твориться. Завелась в сердце змея, жалит пребольно, завистью называется.
Зависть, она грех несладкий. От остальных тем и отличается. Телесного удовлетворения не дает. Скорбь она человеческая о благе ближнего. Скорбь радостною не бывает.