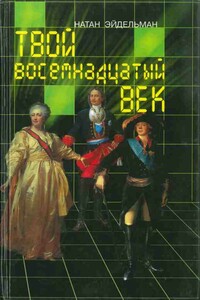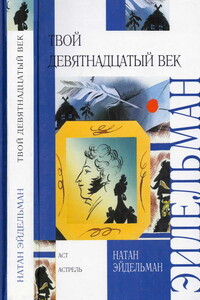Разумеется, Пушкин и Эйдельман не считали Петра «Гением Зла». Но истинное, диалектическое отношение Пушкина к Петру Эйдельман угадывал.
У него была одна характерная особенность, которую вряд ли следует считать сознательно культивируемым приемом, — он являл читателю собственные главные идеи через своих любимых персонажей.
И Герцен был, безусловно, одним из таких рупоров.
А одной из главных идей была, как уже говорилось, идея органичной постепенности, к которой в конце концов пришел Герцен.
Есть все основания предположить, что, «сломав для себя грань между субъективным и объективным», Эйдельман в высокой степени отождествлял себя с Герценом. Здесь нет ничего анормального. Речь идет о предельной родственности мировидения и восприятия себя в мире.
Именно через Герцена — задолго до «Революции сверху» — Эйдельман определял свое отношение к Петру, сложно сопоставимое с отношением Пушкина к первому императору.
Эйдельман сходился с Пушкиным в понимании фундаментальных факторов, определяющих позиции «честного человека», которому не следует «подвергать себя виселице», в отношении государства. Это — максимальное охранение личного достоинства и неприятие костоломных перемен.
Известно, как высоко ценил Пушкин человеческое достоинство, частную независимость. «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности <…> невозможно: каторга не в пример лучше»[12].
Именно воспитание человека чести, человека с абсолютным чувством собственного достоинства считал Пушкин спасением для России.
Это вполне совпадает с убеждением Толстого. Смертельно оскорбленный обыском, который жандармы провели в его отсутствие в Ясной Поляне, он писал своей тетушке фрейлине Александре Андреевне Толстой: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники…
Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил!»[13]
По накалу ярости эта филиппика вполне соответствует пушкинскому письму жене от 3 июня 1834 года по поводу перлюстрации его переписки с ней: «Мысль, что кто-нибудь нас подслушивает, приводит меня в бешенство…»[14]
В программной брошюре, изданной в Берлине в 1905 году, Толстой подвел итог своих размышлений на эту тему: «…Русское правительство, как всякое правительство, есть ужасный, бесчеловечный и могущественный разбойник…» И спасение мира исключительно в отдельном частном человеке, ориентированном на нравственный идеал: «…Закон Бога, не требующий от нас исправления существующего правительства, или установления такого общественного устройства, которое по нашим ограниченным взглядам обеспечивает общее благо, а требующий от нас только одного: нравственного самосовершенствования, то есть освобождения себя от всех тех слабостей и пороков, которые делают нас рабами правительств и участниками их преступлений»[15]. «Самостоянье человека» — по Пушкину.
В модифицированном, разумеется, виде эти близкие Эйдельману идеи он видит в текстах Герцена.
В заметках о Герцене он пользуется нехарактерным для него, но наиболее эффективным в данном случае методом — ключевые по смыслу выписки со скупыми комментариями. Это создает «смысловое сгущение».
В принципиальной по значимости главке «Кровь и после…» он предлагает нам — фактически — их общий с Герценом взгляд на участие человека в историческом процессе.
«Около 1860 года, — пишет Эйдельман, — Герцен находит, что кровавая революция — средство самое крайнее, опасное и нежелательное. По сочинениям его можно составить на эту тему целую энциклопедий о мрачных эпилогах великих потрясений».
Любопытно, что в 1861 году Толстой в письме к Герцену, с которым познакомился и подружился, будучи в Европе, упрекает Герцена в излишнем радикализме, хотя и говорит, что его, Толстого, понимание России схоже с пониманием Рылеева в 1825 году.
Далее следуют тексты Герцена.
«…Мы не верим, что народы не могут идти вперед, иначе как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было».
«Я нисколько не боюсь слова „постепенность“, опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как и непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумения».