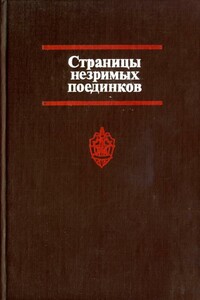Павел Степанович засмеялся с удовольствием, облегченно, грудью, как бы для самого себя только или же, по крайней мере, еще для той дамы в вечернем платье, которую он когда-то видел не то в театре, не то в ресторане и которая будто прошла теперь за окном в сумерках. Засмеялся и Григорий Михайлович, хитро поблескивая глазками и подмигивая не то в сторону директора, не то дурочке-вишне, которая так смело и так опрометчиво зацветала в эту не по-весеннему холодную ночь, вон — пар изо рта даже идет.
— Н-ну, ладно, — вздохнул легко Павел Степанович, только теперь вполне ощутив, какой груз сошел с его плеч. — Хорошо… Ты вот что, Григорий Михайлович, ты сходи давай к Агееву и передай… Словом, распорядись. Чем черт не шутит, глядишь и принесет нам «бесценный» Зигзаг капитал. А?
Далеко, в глухом углу степей, были отгонные пастбища завода. После войны угол этот сделался еще глуше: несколько сел и хуторов, ютившихся прежде по балкам, у старых дорог, у какой-нибудь вялой, сонной речушки, едва сочившейся сквозь осоку и камыши, были сожжены, разорены, раздавлены войной или же уже после войны оставлены людьми.
Безымянная теперь, без начала и конца дорога привела Ивана Ивановича Агеева к озерцу. Оно лежало в черных, истоптанных скотиной берегах. Крупная черноземная крошка повсюду была заляпана тонкими, табачно-серыми коровьими лепешками. У самой воды грязь была вся перемешана, нагромождены корявые горы, образованы клешнятыми копытами провалы, налитые мутной, никогда почти не светлеющей водой.
Только в одном месте виднелся мысок плотной осоки, шелковисто бежавшей по ветру, который безостановочно, то ослабевая, то посвистывая, давя на лицо и холодя вспотевшую спину, дул с северо-востока. У берегов, с трех сторон, вода была гладкой, но ближе к центру поднималась мелкая волна, в середине она становилась густо-синей, и по острой, сверкающей этой поверхности змеились время от времени какие-то черные полосы. А с наветренной стороны шевелилась у кочек кромка желтой пены, под которой пришлепывала и хлюпала вода.
Какая-то чаечка, тонко и тоскливо плача, кружила то высоко над озерком, то резко падала вниз. Лошадь, глубоко увязая в дымно-черном иле, вошла в воду и, добравшись до чистого места, сильно вытянув шею, стала пить цежеными глотками. Агеев, одобрительно посвистывая, неторопливо и зорко оглядывал расстилавшиеся вокруг пространства.
Вон у самой линии горизонта черными спичечками виднелись столбы, неизвестно куда и к кому бегущие — Иван Иванович долго смотрел туда… Степь лежала плоско — столбы, озерцо да вон два ряда глиняных бугров с кустиками вишенника и сирени, оставшиеся от хуторка — над всем этим нависали огромные небесные стены.
Звучно чавкая и хлюпая водой, с трудом вытаскивая ноги, Бес — небольшой рыжий конек с широкой грудью и чашеобразными копытами — выбрался на сухую землю, глубоко, облегченно вздохнул, повернув голову, скосил глаза на хозяина: что, мол, дальше-то? Но хозяин все еще осматривал степь, и лошадь, не отвлекая его от важного этого дела, тронула сама, тупо застучали ее копыта, все быстрее становился шаг ее, вот пошла уже ровная рысь: тук-туп, тук-туп…
До вечера почти ехал Агеев — и все молча, все один, но ни угрюмости, ни отрешенности нельзя было обнаружить на его небольшом лице. Он все наблюдал, что попадалось ему в дороге, с живым участием встречая каждую мелочь степной жизни — орла, парящего высоко в небе на широких крыльях; суслика, нырнувшего в нору; жаворонка, изо всех сил побежавшего в траве и вдруг порхнувшего в небо; младенчески-зеленый еще ковыль; легкую бабочку; след тележного или же тракторного колеса. Все в его сознание входило как самостоятельные явления жизни, с такими же, как у него, правами на эту жизнь, и он не думал, что он один, одинок, забыт всеми и никому не нужен.
Долго, например, он не мог отвлечься мыслью от чаечки. Он знал, где она вьет гнездо, сколько и какие кладет яички, что кликом своим она никого не зовет и никого не оплакивает. Но он верил, что она ждет его и убивается по нему, что орел его видит и знает, что торжествующе будет смотреть ему вослед и свистнет даже вдогонку суслик. А потом мысли всякие: зачем здесь проехал трактор и чей это трактор, мысли о табуне, мысли о доме, где он не был недели две, пожалуй.