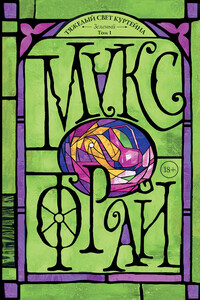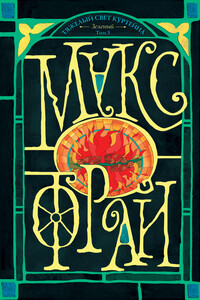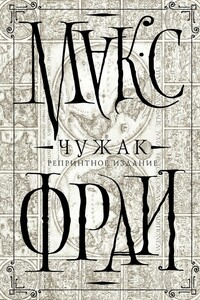– Я теперь тоже так думаю. А тогда – не представляешь, как разозлился на эту сладкую ложь, начитавшись которой толпа дурной молодежи немедленно побежала бы к вам, на Другую Сторону, чтобы тоже так соблазнительно потеряться и счастливо сгинуть навек. В общем, разругал я его в пух и прах. Ни в чем себе не отказывал. Говорил, что отродясь не читал худшего вранья. Что писать о полном забвении, не испытав его на себе, все равно что, разбив коленку, с видом знатока рассуждать о смерти. Что стремительная пробежка счастливого бездельника по книжным магазинам Изнанки отличается от настоящей жизни тамошних людей больше, чем детские игры в куклы от возни с настоящим живым младенцем. Что естественная для нас легкомысленная отвага очень быстро проходит перед лицом двух смертей Другой Стороны. Что таких людей, как он описал – способных очаровывать всех подряд, умных, но беспечных как дураки, фантастически везучих, почти всемогущих – вообще не бывает, даже если автору приятно воображать, что таков, к примеру, он сам. Тут я, конечно, погрешил против истины: все-таки друг мой Эдо примерно таким и был, а что списал с самого себя всех шестерых героев, невелик грех: вряд ли он один такой в мире. Наверняка и другие есть. Но я уже разошелся, меня было не остановить. Такого ему наговорил, что даже за четверть сказанного сам бы кого хочешь убил. Но Эдо и бровью не повел, наоборот, поблагодарил меня за профессиональную консультацию, забрал свою рукопись и ушел, насвистывая «Ничего коту не надо» – была у нас тем летом в моде такая дурацкая песенка, ужасно прилипчивая, звучала буквально на всех углах. Это последнее, что я от него слышал; два дня спустя Эдо отправился к вам, на Другую Сторону, и пересек городскую черту, а это, сам, наверное, знаешь, делает путешественника полноправной частью вашей реальности, с новой биографией и судьбой. И гарантированно приводит к полному забвению настоящей жизни и даже собственной личности, которое я ему в сердцах посоветовал испытать на себе прежде, чем сладкие байки рассказывать. Ну вот он и пошел. Специально позвал с собой Кару – она…
– Вашу Кару я хорошо знаю.
– А. Ну, тем лучше. В общем, позвал в свидетели Кару, которая тогда как раз околачивалась на Другой Стороне и одного ее приятеля-контрабандиста; оставил расписку, что нарушает Второе Правило осознанно, по доброй воле, в здравом уме и твердой памяти и просит его не останавливать, не гнаться следом, не приводить силой назад. В общем, сидеть на заднице ровно и ни в коем случае его не спасать. Они, кстати, все равно не имели права бездействовать – по закону я имею в виду. Но Каре всегда было плевать на законы и правила; по-человечески это понятно, но для полицейской начальницы такого ранга даже не смешно… Ладно, отпустила и отпустила, чего теперь локти кусать. Не отпустила бы, сам бы потом убежал, без ненужных свидетелей, на цепь-то его не посадишь. А так хотя бы передал кучу писем – матери, сестрам, нескольким женщинам, каким-то коллегам, любимым студентам, кому-то еще. А мне, конечно, ни слова. Ну я и не ждал особо. Сам к тому времени понял, что натворил, как много для него значила эта чертова книжка…
– И как много значил для него ты, – добавил его собеседник. – А то плевал бы он на твои придирки с высокой башни. Максимум дал бы в глаз, чтобы отбить охоту к азартной критике. Порой только тогда и выясняется, кто тебе по-настоящему дорог, когда понимаешь, что не можешь простить ему то, что легко спустил бы всем остальным.
– Да, наверное, – кивнул Тони Куртейн. – Но важно сейчас, сам понимаешь, не это. А только – видит ли он свет моего маяка.
Я
– С детства мечтал стать композитором, но даже «Собачий вальс» на пианино играть не выучился и струны гитары правильно зажимать, – говорю я.
Тони любезно делает такие специальные большие глаза из серии «ну ты даешь», предназначенные для неловких ситуаций, когда я в сотый раз ему что-нибудь рассказываю, как в первый, а он старается не подавать виду, что уже наизусть выучил мое выступление. Тони – удивительно деликатный человек.
– Я помню, что уже жаловался тебе на это досадное несовпадение желаний и возможностей, – говорю я. – Но сейчас я не жалуюсь, а хвастаюсь. По-моему, мне все-таки удалось сочинить годную симфонию. Увертюра уже звучит – слышишь шум ветра? Слышишь цикад? Слышишь, как в трех кварталах отсюда хором поют «Хабанеру» по-русски? Девчонки надрались, фальшивят безбожно, зато и хохочут от сердца всякий раз, пустив петуха. Слышишь колокол костела Святого Георгия