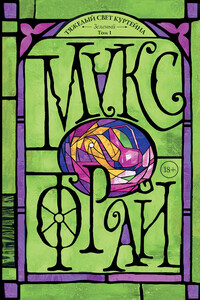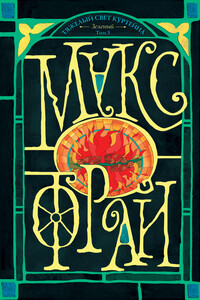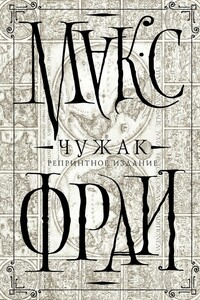Сел на лавку, посмотрел на свои руки. Руки как руки, нормальные, человеческие, не какой-то мутный хрусталь. Долго разглядывал пальцы в предрассветных сумерках в надежде обнаружить хотя бы намек на былую прозрачность. Не обнаружил, конечно. И тогда заплакал – о несбывшейся легкой смерти и утерянном рае, о Лорке, о море, о бульваре, засаженном липами, о доме с русалками, длинноногих девчонках в купальниках, тенте в форме пучеглазого краба и цветных фонарях – так горько, как, кажется, даже в детстве не рыдал.
Пока плакал, ему казалось, что Лорка по-прежнему где-то тут, рядом. Смотрит на него, сострадает, хочет обнять. Ощущение было такое убедительно достоверное, что длил бы его и длил, всю жизнь был согласен плакать, лишь бы чувствовать, что она здесь.
Слезы закончились прежде, чем Гансу хоть сколько-нибудь полегчало. В любом человеке ограниченный запас слез, а во взрослых мужчинах сорока девяти лет их обычно так мало, что хоть у прохожих одалживайся. Но в это время суток на набережной никого нет.
Однако когда Ганс отнял руки от лица, оказалось, что прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки сидит на корточках какой-то незнакомый мужик и так внимательно его разглядывает, словно собирается то ли ограбить, то ли нарисовать портрет.
– Извините, – поспешно сказал незнакомец. – Свинство с моей стороны вам сейчас мешать. Но уйти, ничего не объяснив, было бы еще худшим свинством. Потому что вы же, наверное, думаете, будто чудом встретились с покойной женой, а теперь снова ее потеряли. А вы не потеряли – в том смысле, что терять было некого. Вас сюда привел я.
– Что? – переспросил Ганс. И повторил: – Что?!
Вернее, он только хотел спросить, а на самом деле просто беззвучно открыл рот. Не смог выговорить ни слова. Голоса почему-то не было. И мыслей не было. Да и чувств тоже почти не осталось – ничего, кроме горя и изумления, таких огромных, всепоглощающих, что все остальное просто не помещалось в него.
– Я не нарочно, – сказал незнакомец. – То есть я не нарочно прикинулся вашей женой, чтобы вас помучить. Просто надо было вас увести, пока не исчезли, любой ценой. Это только поначалу кажется, будто исчезнуть приятно. На самом деле, вам бы совсем не понравилось превратиться в жалкую, беспамятную, голодную тень и бесславно погибнуть от рук тамошних полицейских, которые, при всех их несомненных достоинствах, на этой стадии исчезновения уже не умеют спасать. И вообще никто не умеет, не только они. В общем, надо было срочно уводить вас с пляжа, где вам было так хорошо, что хрен бы вы меня послушались, а времени оставалось в обрез. На такие случаи у меня есть один прием – довольно жестокий, зато безотказный: человек видит на моем месте того, кого любит больше всего на свете, больше жизни, больше себя самого. Вот и вы увидели, кого надо. И пошли за мной. И вернулись назад. И правильно сделали. В этом городе нет моря, но жить здесь все равно хорошо. Вы живы, вы снова есть, даже саксофон не посеяли, будет на чем играть – все это в сумме просто отлично, хотя вам понадобится время, чтобы по достоинству оценить этот факт. Сейчас-то вам – хуже некуда, это я понимаю… Хотите выпить?
Ганс отрицательно помотал головой. Сказал, вернее, подумал, беззвучно шлепая губами, как глупая рыба: «Мне бы сейчас сигарету», – и тут же ее получил. Без фильтра, со сладковатой бумагой и такую невообразимо крепкую, что лучше бы не просил.
От сигареты ему здорово полегчало – в том смысле, что затошнило от непривычно крепкого табака, и остальные проблемы поневоле отступили. Понятно, что временно. Но хоть так.
– Ужасная дрянь, – сказал он наконец прорезавшимся голосом.
– Да, – кивнул незнакомец. Он выглядел страшно довольным собой. – Хуже стакана водки на голодный желудок. Это не то «Монте-Кристо», не то «Лигерос»; в общем, кубинская сигарета, из обрезков сигарного табака, таких уже давно не делают. Ну или делают, но в Европе точно не продают. Но у меня в кармане как раз завалялась одна. Рад, что вам пригодилась. Добро пожаловать домой.
– Я был… где-то не здесь? – спросил Ганс. – На том свете?