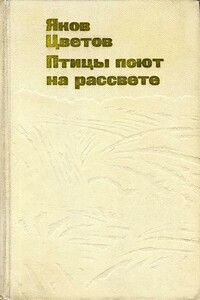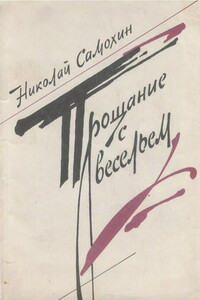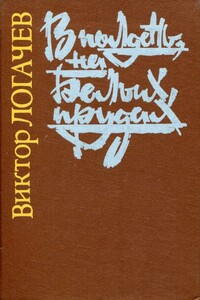Говорил он об этом так, словно туда и держал путь. В последние дни память часто возвращала его под Курск. Он и сейчас был там. Вот поднялся с кровати и громко позвал: Дуня! Дуня не откликнулась. Поморщился: «С фермы, что ли, еще не пришла?» Болела голова. «Перебрал с вечера…» Под воскресенье после работы не мог отказать себе в лишней рюмке. «А почему, черти, лишняя, раз нутро требует? — недоумевал он. — И надо же придумать такое: лишняя…» В нагретой солнцем горнице пахло помытым полом, березовым веником, из печи вкусно несло щами и пирогами. Мельком взглянул на часы: перевалило за двенадцать. Было тихо: значит, и дочь и сын подались куда-то. Досадливо потер лоб: «Перебрал… перебрал…» соглашался с кем-то, наверное с женой, с Дуней. «Опохмелиться б, и порядок». Вечером заседание правления колхоза. До вечера далеко. Сунул ноги в шлепанцы, направился к буфету. Буфет празднично застелен широким и длинным полотенцем, по которому разлетелись розовые голубки и каждый держал в клюве оранжевый венок, а на концах полотенца два одинаковых петуха с высокими красными хвостами и большими красными лапами шли друг на друга и никак не могли сблизиться. «Эх, до чего ж Дунька моя мастерица! Вышила как… И где высмотрела таких голубков и петухов таких… Ни лицом, ни статью неприметная, а лучшей — сроду не видывал». На верхней полке буфета, в глубине, затененный, графин с водкой. Протянул руку, и пока снимал с полки, солнце наполнило графин золотистым светом. Он не успел налить и половины граненого стакана, как услышал в сенях задыхающиеся шаги. «Вот балбес, а уж пятнадцатый пошел…» Тревожно распахнулась дверь. «Радио включай! Радио! — С чего это он, сын? А он: — Война! Война!» Непослушной рукой включил радио. «Враг будет разбит… Победа будет за нами…» Враз все погасло — и день за окном, и солнце, только что стоявшее на голубой вершине дня. «Дуня-я-я!» — завопил изо всех сил, хоть и знал, что еще не вернулась она с фермы. «Дуня-я-я!!» Как был, в шлепанцах, выскочил на улицу. Не может быть: лето, воскресенье, тихие думы, и война! Необычно шумная в этот час, взволнованная, потрясенная, улица бежала к дому правления колхоза, вся деревня уже толпилась там. «Враг будет разбит… Победа будет за нами…» — грозно повторял рупор, подвешенный к столбу на площади.
Все это и сейчас стояло перед ним. И графин, играющий на свету, и розовые голубки, и хвостатые петухи, и березовый веник тоже, и не сводил с этого глаз. И подумать не мог, что это когда-нибудь вызовет в нем волнение. «Боже ж ты мой, какие пустяки сохраняет память…» И ничего не поделать. Стоят перед глазами и стоят.
Данила протяжно вздохнул.
— А что, голуба, одна? — Он опять смотрел на Марию. — Растерялась с кем?
— Не одна… с Леной… — дрогнул голос Марии.
— Лена? — не понял Данила. — А где ж она, твоя Лена?
— Лена… Лена… умерла… вчера… там… — чуть повела головой в сторону. — Самолеты… — И совсем тихо: — А теперь я одна…
— Да-а… Досталось тебе, не приведи бог… Так вот, голуба, хочь не хочь, а попутчики мы тебе. Ну, не в Москву пусть, а попутчики… Некуда тебе от нас.
Теперь голос Данилы успокаивал, внушал надежду. Сама надежда, если б говорила, говорила бы его голосом, — подумала Мария. Она опять услышала:
— Вот подхарчимся малость, силенок чтоб набраться, и айда в дорогу.
Она признательно смотрела на него.
Немного помедлив, спросила:
— А далеко до Яготина?
— Э, голуба. Так это совсем в сторону. А туда тебе чего?
— Нет, ничего… Через те места дорога на Москву, вот почему я…
— Ну, про Москву, голуба, забудь пока. Ты про другое думай. До Москвы сейчас дорога кривая… Поняла?
Мария опустила голову. Поняла…
2
Данила достал буханку, вытащил из-за голенища финский нож. Прижав буханку к груди, отрезал три ломтя ноздреватого, как сыр, хлеба.
— Держи, хлопцы. — Дал Марии, дал Саше, положил на траву свой ломоть. Нашарил в мешке консервную банку, повертел, любуясь ослепительным блеском белой жести.
— Разберись попробуй, чего тут. Энтикетки старшина, стервец, со всех банок содрал. Ладно, посмотрим.
Из вскрытой банки шибанул вкусный дух мясной тушенки.