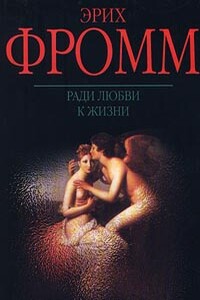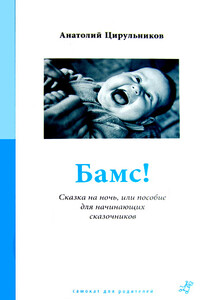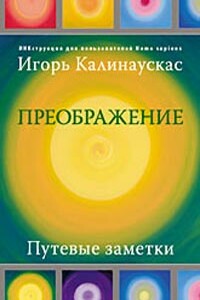Таково обращение к языку ученого, ведомого программой теоретизации биологии и мыслящим эволюционными категориями, пытающийся найти интегрированную лингвистическую перспективу для связывания в некое единство для биологических явлений морфогенеза индивидуального организма, генетики, как особого рода нелинейного канала передачи наследственнной информации, а также общий, открытый, претендующий на универсальность — от Большого Взрыва до человека — контекст, который именуется эволюцией и который, собственно, и есть сама жизнь.
Естественно, что обращение к языку тесно сотрудничавшего с Уоддингтоном французского математика Рене Тома имело свое личностное выражение. В 60-х годах под очевидным воздействием своей вовлеченности в проект Уоддингтона, Рене Том начал разрабатывать так называемую семиофизику, прилагая идеи топологии — точнее, динамической теории морфогенеза и теории катастроф — к языку, рассматривая последний как особого рода нелинейную, открытую и в определенных точках неустойчивую семиотическую систему. Рене Том пытался создать своего рода «бионейрофизическую» модель языка как нелинейной знаковой системы взамен классической линейной модели языка, предложенной в начале века Фердинандом де Соссюром.
Некоторое представление об этой работе Тома можно составить по опубликованной в журнале «Успехи математических наук» его статье «Топология и лингвистика», с предисловием и комментариями переводчика этой статьи Ю.И.Манина. Комментарий Манина начинается с констатации, «что работа, выполненная на стыке интересов двух групп ученых, рискует оказаться не принятой ни теми, ни другими: происходит почти биологическая реакция отторжения». Эти слова относятся к 1975 году, когда феномен синергетического междисциплинарного взаимного узнавания был выражен достаточно слабо, так что констатация Манина, выдающегося математика с широким естественнонаучным горизонтом и глубоким интересом к гуманитарным дисциплинам, имела свои основания. Хотя было бы уместнее в данном случае говорить о равнодушии, незамечании, чем о биологическом отторжении.
Но главное в работе Тома для меня в том, что ее адекватное понимание предполагает наличие все той же третьей позиции, личностной, автопоэтической, синергетической, коммуникативной. А эта позиция «между крайностями» всегда в чем-то неопределенна, неустойчива, размыта, плохо очерчена, во многом опирается на интуитивное понимание ситуации и т.д. Для жаждущих определенности такая позиция дискомфортна, вызывает желание покинуть ее. При этом отказ от усилий понимания оправдывается, например, отсутсвием четко сформулированного результата работы. А он и «в самом деле» отсутствует, поскольку ненаблюдаем как таковой ни с той, ни с другой сторон «стыка».
Для этого с обеих сторон нет ни соответствующего запаса образов-представлений, ни соответствующего языка символов для их взаимной перекодировки. Нет условий для коммуникации, поскольку нет совместно разделяемого контекста.
Тем не менее, Манин как переводчик работы Тома полагает, что результат есть, но он не является ни математической теоремой (математики могут не напрягаться в усилиях что-то понять), ни чисто лингвистическим наблюдением. Последнее вполне очевидно. Том, по своим общеметодологическим установкам, — структуралист. А структурализм ставит своей задачей обнаружить кроющуюся за наблюдаемой вязью явлений, паттерном событий от непосредственного наблюдения и скрытую, которая эти события порождает или которыми она управляет [174]. Эта структура сама по себе может быть представлена разными средствами. Например, средствами абстрактной логики или абстрактной алгебры, такой как теория групп. Или, как в случае Тома, — средствами топологии, а, точнее, средствами так называемой теории катастроф. Последняя же, в свою очередь, появилась как результат встречи математической теории особенностей Уитни с проблемами нелинейной классической механики. Теперь теория катастроф встретилась с лингвистикой. Существенно при этом, что одновременно мы имеем пересечение двух программ: Уодингтона, о которой говорилось выше, и структуралистской. В рамках первой программы — «На пути...» — терия катастроф Тома превратилась в динамическую теорию морфогенеза. В контексте последней и возникла семиофизика Тома, которая представляет собой один из характерных для развития постнеклассической науки примеров «сдвоенной» науки, являющейся элементом коммуникативного междициплинарного интерфейса, входящего как часть общей кольцевой структуры человеческого общения в целом.