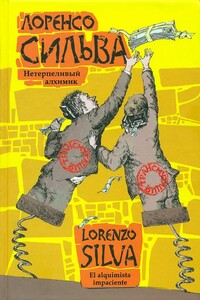– Сонсолес знает, что я не идиотка.
– Был случай убедиться?
– Это наш секрет, между сестрами.
– Я ей не расскажу. Я с нею не знаком и знакомиться не собираюсь.
Она посмотрела на меня пристально, изучающе.
– Буду хранить секрет, – пообещал я.
– Тогда мне только что исполнилось тринадцать. А у Сонсолес был жених. Дядечка с животиком и в усах. Хорошо, что у тебя нет животика и усов. Я думала, все полицейские носят усы.
– Это жандармы с усами. И то – раньше.
– А тот был адвокат или что-то в этом роде, но в усах. И вот они вдвоем приехали в наш дом в Льяносе, дело было летом. Однажды я переодевалась после пляжа у себя в комнате и увидела, что он из сада подглядывает за мной. Я уже разделась, и он успел увидеть меня голой, так что я не стала спешить. Оделась как ни в чем не бывало и вышла к обеду. За столом дядечка ластился к Сонсолес, называл ее лапочкой. Я съела первое, потом второе, не сказав ни слова. А когда принесли десерт, выпалила сестрице, чтобы она на следующее лето подыскала себе другого жениха, который не водил бы ее за нос. Сначала Сонсолес не поняла, а потом велела мне замолчать. Но я все равно сказала, что усатому нравятся девочки помоложе. Тут Сонсолес не на шутку рассердилась, а отец прогнал меня из-за стола, но дядечка уже сидел весь красный, и я, уходя, успела дать ему совет: в другой раз, когда захочет посмотреть, как я переодеваюсь, пусть прячется получше или просит у меня разрешения. На следующий день адвокат слинял, а сестра меня возненавидела, но зато не будет думать, что я идиотка.
Она рассказывала, а я представлял себе, как было: потный адвокат прячется в кустах, и смешное брюхо нависает над полусогнутыми волосатыми ногами; Росана спокойно, делая вид, что не замечает его, переодевается; Сонсолес сперва пытается замять неловкость, но в конце концов ей становится очевидной сальная похотливость ее серого принца. Существо, которое в недобрый час родители дали ей в сестры, превратилось в ее самого страшного врага, в живой позор, которым она платила за все свои недостатки. Ужасную подлянку бросила ей судьба: жить рядом с девочкой, которая обладала как раз тем, чем была обделена она сама, – даром обаяния. Я представил, каких усилий стоило ей не показывать, как она ее ненавидела, приезжая за ней в школу, водя по магазинам, предлагая ей откровенность и приглашая в сообщницы. В первый раз мне стало жалко эту сучку Сонсолес.
– Хорошенькая история, – заметил я. – Особенно для усатой свиньи. Приятные минуты, думаю, пережил он в кустах.
– Не думай. Я тогда была еще девчонкой. Так что удовольствие было невеликое.
– Было, а теперь?
– А теперь бикини на мне смотрится гораздо лучше.
– Хотелось бы взглянуть.
Она улыбнулась. Улыбка у нее была – во все лицо, и на щеках – ямочки, а зубы – хоть на выставку.
– Как раз это мне в тебе нравится.
– Что?
– Что не прячешься в кустах, как усатый. Ты бы открыто попросил у меня разрешения посмотреть.
– Мы, большевики, не прячемся. Убеждения не позволяют. Чего нет – того нет, а уж что есть, то – извините.
– Хочешь посмотреть на меня в бикини?
– Я уже сказал.
– Тогда веди меня в бассейн.
– Сейчас?
– После обеда. Я всегда хожу по субботам с подругами. Родителям незачем знать, что я пойду с тобой, а если мы пойдем в другой бассейн, то и подружки не узнают.
– Я столько лет не был в Мадриде в бассейне, что не знаю, где они.
– Так узнай. На то ты и полицейский.
Она сказала это как-то странно, но еще более странным было, что я вдруг решился:
– Раз уж я поведу тебя в бассейн, то, пожалуй, следует сначала сказать кое-что.
– Что?
– Я – не поли.
– Я так и думала.
– И не маньяк.
– Угу.
– Тебе как будто все равно.
– Конечно же нет. Как тебя зовут? На самом деле.
– Хаиме, – соврал я.
– Это мне нравится меньше, чем Хавьер. Но ты нравишься мне больше, чем поли. Так ведешь меня в бассейн или нет?
– Да, если хочешь, – сдался я.
– Хочу. Забери меня на этом же месте в половине пятого. А сейчас я пойду немножко попотею. Считается, что я пришла сюда бегать. Чао.
Она побежала, ее волосы развевались по ветру, а я остался сидеть, и в голове роились мысли по поводу Данте и Беатриче, рая и ада, и крепла проклятая уверенность, что наверняка нет горше боли, чем вспоминать о счастливых временах в час беды.