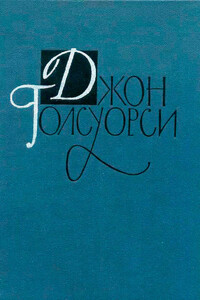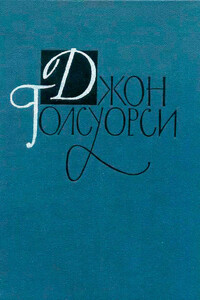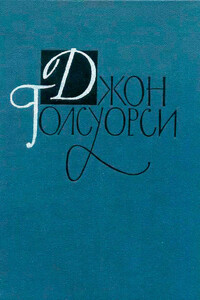Симона - страница 12
Когда Морис своим насмешливым, высоким, почти квакающим голосом говорил об „этих господах“, это не было так туманно и расплывчато, как в устах папаши Бастида, у Мориса это звучало решительно и резко.
Симона, стоя у колонки, отдавала должное Морису, — ведь слова его не лишены известной убедительности. Но как раз его самоуверенность и раздражала. Стоило кому-нибудь возразить, и Морис приводил цифры и факты и затыкал смельчаку рот. Не всегда этим цифрам верили, но всегда оказывалось, что Морис прав.
Однако Симоне и в голову не приходило поддаваться убедительности этих цифр и фактов. Всей душой отвергала она их. Он не прав, он во всем видит только одну сторону. Для него существует только белое или черное, левое или правое. Для него всякий, кто с ним в чем-либо не согласен, дурак или негодяй, фашист.
— Возможно, что в ту пору, когда мы были в коалиции с левобуржуазными партиями и представляли большинство, мы могли бы выкурить их, наши двести семейств, — донеслись до Симоны его слова. — Но когда дошло до дела, наши буржуазные друзья попрятались в кусты. И так всегда. Чуть только запахнет дракой, и наши союзники из других классов бросают нас на произвол судьбы, даже те из них, у кого самые лучшие намерения.
Все молчали. Морис показал наверх, на окна кабинета мосье Планшара.
— Наш пустобрех, — продолжает он, — всегда выставлял себя страшным патриотом, противником маркиза, фашистов, — но вот вам — теперь он ведет с ним переговоры.
— Заноза ты, — добродушно сказал старик Ришар. — Хозяин, конечно, любит поговорить, это верно, но, когда нужно, он и расщедриться может. Очень порядочно было с его стороны подарить беженцам те две машины.
— О да, — насмешливо подхватил Морис, — еще бы, два старых негодных пежо. Эти счастливцы будут благодарить судьбу, если доберутся на них до Невера. А пустобрех между тем и благородный жест сделал, и обеспечил себе лазейку на случай, если от него потребуют большего.
— Ты не прав, — вступился за хозяина и упаковщик Жорж, — ты просто не можешь спокойно говорить о нем.
— Я говорю то, что есть, — отвечал Морис, — а вам он своей трепотней сумел втереть очки. Беженцам горючее нужнее хлеба. Его цистерны доверху полны контрабандным бензином. А я что-то не заметил, чтобы он хоть каплю уступил беженцам.
— У всех есть контрабандный бензин, — спокойно сказал старик Ришар и сплюнул.
Упаковщик Жорж прибавил:
— К обоим пежо он дал горючего.
— Я не пророк, — сказал Морис, — но помяните мое слово: чуть только здесь запахнет порохом, пустобрех уцепится за фалды наших двухсот семейств.
— Здесь уже сейчас здорово пахнет порохом, — сказал старик Ришар.
Морис взглянул на товарищей карими умными глазами и лукаво усмехнулся.
— Поэтому спорю на бутылку перно и десяток пачек голуа, что в конце концов машины достанутся не беженцам, а маркизу, для перевозки его вин.
Симона любила дядю Проспера. Он ее приютил, заменил ей отца. Она была членом семьи. Он привязан к ней, балует ее. Когда он ходит в кино, он берет ее с собой; когда уезжает, всегда привозит что-нибудь. В прошлом году он взял ее в Париж на две недели. Он со всеми приветлив, у него доброе сердце. Все любят его, хотя иногда и ругают. Только Морис его ненавидит. Морис ругает его из ненависти. Ее всю корежит, когда Морис называет дядю „пустобрехом“.
Упаковщик Жорж совершенно прав: вот именно, Морис не может спокойно говорить о нем. Морис не может спокойно говорить ни о ком, у кого есть деньги. Он полон предрассудков, зловредный он человек.