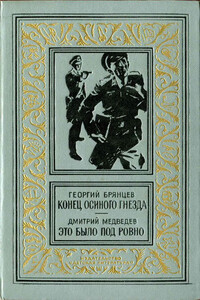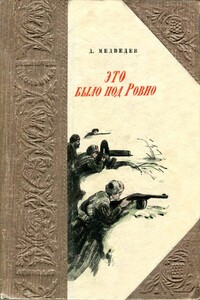Глядя на него, я подумал, что он действительно похож на немца — блондин с серыми глазами.
— Мало ли людей знает немецкий язык! По-вашему, все они должны лететь за линию фронта?
— Я знаю не только язык, — возразил Кузнецов. — Я вообще интересовался Германией, читал немецких классиков… — И, помолчав, добавил: — Я немцев знаю.
— Хорошо, а представляете ли вы себе, с какими опасностями связана работа разведчика?
— Я готов умереть, если понадобится, — сказал он.
— Берите его в отряд! — горячо настаивал Творогов. — Не ошибетесь!
Я согласился.
Через несколько дней Кузнецов был освобожден с завода, на котором работал, и приступил к подготовке.
Он ежедневно беседовал с пленными немецкими солдатами, офицерами и генералами. Ему предстояла задача детально ознакомиться со структурой гитлеровской армии, с нравами фашистской военщины, а главное — в совершенстве изучить какую-либо местность Германии, за уроженца которой он смог бы себя выдавать.
Подготовка эта велась в строгой тайне. Не только рядовые бойцы, но даже руководители отряда — Стехов, Пашун, Лукин — не знали о Кузнецове.
Вместе с Кузнецовым обучались военному делу Николай Приходько, Голубь, Николай Гнидюк и другие добровольцы — уроженцы Западной Украины. Жили они отдельно. Соколов и Волков познакомились с ними всего за несколько дней до вылета.
Поздоровавшись, Кузнецов отходит в сторону и молча слушает рассказ о подвиге Саши Творогова. Я вижу, как мрачнеет его лицо.
В лагерь мы идем с ним вдвоем. Кузнецов молчит. Он не задает вопросов, на мои отвечает коротко. Мне он кажется человеком замкнутым. Или это только сегодня — в первые часы пребывания на территории, оккупированной врагом, под впечатлением рассказа о Творогове? Мы идем рядом. Я не вижу его лица, но мне кажется, что и теперь на нем застыло то же выражение решимости, какое я видел в Москве; та же сосредоточенность и спокойная уверенность человека, все обдумавшего и знающего, что он будет делать. И действительно, Кузнецов, отвечая на мой вопрос о его планах, говорит:
— Я смогу беспрепятственно действовать в городе. Подготовился, кажется, хорошо. Да и стреляю теперь сносно. В Москве много тренировался.
— Это хорошо. Только стрелять вам пока не придется.
— Почему не придется?
— У вас будут задачи другого рода.
— Что ж, хорошо, — неохотно соглашается он. Чувствую, что своим ответом разочаровал его.
Мне предстоит, однако, разочаровывать его и дальше.
— И посылать вас пока, я думаю, никуда не будем, — говорю я.
— Как не будете?
Впервые слышится в его голосе волнение.
— Вам придется готовиться. И довольно долго. Посидите, подучитесь еще, а там и начнем.
— Когда это? — спрашивает он уже с нескрываемой досадой.
— Месяца через два — два с половиной. Как успеете.
Кузнецов ответил сухо:
— Слушаюсь.
Весь остальной путь мы прошли молча.
Приближается август, а мы все еще в пути. Перевалили через железную дорогу Ковель — Киев. До места, где мы намерены расположиться, осталось километров сорок.
Близ разъезда Будки-Сновидовичи местные жители предупредили наших разведчиков, что фашисты нас заметили, когда мы переходили через железную дорогу, и на рассвете следующего дня готовятся к нападению на отряд.
Как ни странно, это тревожное известие вызвало среди партизан шумное и радостное оживление. Наконец-то мы снова встретимся с врагом лицом к лицу! Ясное дело, мы должны их опередить!
Мой приказ — выделить группу из пятидесяти человек для удара по противнику — вызвал общее разочарование. Бойцы рассчитывали, что ударим всем отрядом.
Особенно удручен был Стехов. Он собирался идти во главе группы, я же его не пустил. Командиром пошел начальник штаба майор Пашун — кряжистый, расчетливый, с энергичным скуластым лицом, белорус по национальности, в прошлом паровозный машинист.
Тем, кто попал к нему в группу, все откровенно завидовали.
Ночью группа скрытно приблизилась к разъезду. Разведка установила, что фашисты находятся в эшелоне, стоящем неподалеку на запасном пути.
Партизаны скрытно подползли к вагонам и залегли. Не успел Пашун осмотреться, как группе пришлось действовать. Какая-то собачонка, видимо, услышав шорох, подняла лай и всполошила охрану. Часовой окликнул — ему никто не ответил; тогда он дал два сигнальных выстрела. Медлить было нельзя, и Пашун скомандовал: «Огонь!»