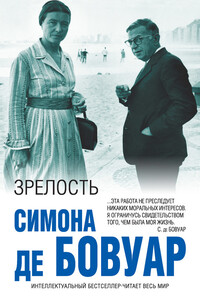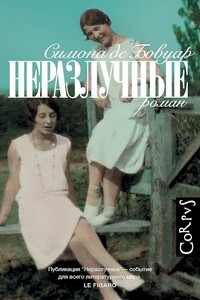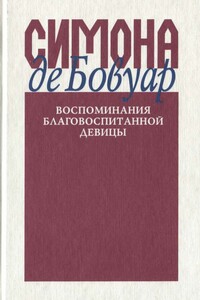В Уаргле я задержалась на три дня. Мне хотелось поехать в Гардаю. Один торговец финиками дожидался грузовика, который должен был везти туда его товар. Каждое утро я спрашивала торговца: «Приехал грузовик?» — «Нет. Но завтра — обязательно…» Я возвращалась в гостиницу, где была единственной постоялицей и где меня кормили верблюжатиной. Мне нравилось сидеть на террасе, пришвартованной у кромки зыбучих песков. Порой время казалось бездонным, я чувствовала, что изнемогаю. Тогда с сандалиями в руках я шла средь вспенившихся дюн абрикосового цвета, натыкавшихся вдали на твердые розовые утесы. Вот под пальмами молча прошла задрапированная женщина, потом старик с ослом: как прекрасен человеческий шаг, пересекающий неподвижность окружающего мира, не нарушая ее. Я возвращалась в гостиницу, волнуясь при виде отпечатков моих ног на мягком песке. После долгих лет коллективной жизни это пребывание наедине с самой собой так сильно подействовало на меня, что мне почудилось, будто я стою на пороге зари мудрости: то была всего лишь краткая остановка, но в моем сердце надолго сохранились пальмы и пески с их безмолвием.
Меня ждали в Алжире, и я отказалась от Гардаи. В баре «Гранд-отеля» в Туггурте я с неудовольствием встретилась с позабытой цивилизацией: суетной, болтливой, прожорливой. На следующий день я уехала, но не на курьерском поезде, которым пользуются европейцы, а — так как мне хотелось остановиться на несколько часов в Бискре — гораздо более ранним и медлительным поездом, заполненным почти исключительно арабами. Все вагоны были забиты, на подножках теснилось множество людей. Мне удалось подняться на площадку, где меня хлестал ветер с песком. Я не успела купить билет и попросила его у контролера. «Билет? Вы настаиваете?» Засмеявшись, он покачал головой: «Как же так: европейка! Не стану я заставлять вас платить». Меня восхитила эта логика: раз у меня есть деньги, он не станет их требовать. А вот с туземцами он не церемонился.
Бискра оказалась менее привлекательной, чем в книгах Андре Жида. В Алжире меня никогда не оставляли одну, и я видела лишь декорации. После ослепительной Сахары север показался мне тусклым.
Вернувшись самолетом, я нашла опустевший Париж. Сартр еще не возвращался, Лиза уехала, Ольга находилась в Нормандии у своих родителей, Бост с группой журналистов путешествовал по Италии, Камю собирался в Нью-Йорк. Я работала и немного скучала. Через Кено я познакомилась с Борисом Вианом: инженер по образованию, он писал и играл на трубе. Виан был одним из вдохновителей движения «зазу», порожденного войной и коллаборационизмом: богатые родители большую часть времени проводили в Виши, а их сынки и дочки устраивали в покинутых квартирах «классные» вечеринки; они истребляли запасы вина и ломали мебель, подражая воинственным грабежам, промышляли на черном рынке. Аполитичные анархисты, они, наперекор своим родителям-петеновцам, афишировали вызывающее англофильство, изображая чопорную элегантность, акцент и манеры английских снобов. Америка так мало занимала их мысли, что они пришли в замешательство, когда Париж заполнили американцы, а между тем с ними их связывал весьма ощутимый общий интерес — джаз, они слыли его фанатиками. И в тот самый день, когда в Париж вошли американцы, оркестр Абади, где играл Виан, был приглашен «French Welcome Committee»[8] и прикреплен к «Special Service Show»[9]. Этим и объясняется внешний вид бывших «зазу» в те годы, они одевались в излишки армейского обмундирования: джинсы и клетчатые рубашки. Собирались они на авеню Рапп, в квартале Елисейских полей, а также в «Шампо», на углу улицы Шампольон, где тогда размещался дансинг. Кроме джаза, горстка из них любила Кафку, Сартра, американские романы: во время войны они копались на книжных развалах на набережных и ликовали, когда отыскивали там запретные произведения Фолкнера или Хемингуэя. Читать и спорить они приходили в Сен-Жермен-де-Пре. Так, в баре «Пон-Руаяль» я и встретила Виана, он как раз читал для Галлимара одну рукопись, которая очень нравилась Кено; вместе с ними и Астрюком я выпила стаканчик. Мне показалось, что Виан прислушивается в основном к себе и слишком охотно культивирует парадокс. В марте он устроил «вечеринку», когда я пришла, все уже порядком выпили, его жена Мишель с распущенными по плечам длинными шелковистыми белокурыми волосами глупо улыбалась, Астрюк спал на диване. Я тоже отважно пила, слушая пластинки из Америки. Около двух часов Борис предложил мне чашку кофе; мы сели в кухне и проговорили до зари: о его романе, о джазе, о литературе, о его ремесле инженера. Я уже не замечала ничего напускного в этом узком лице, гладком и бледном, а видела только необычайную приветливость и что-то вроде упрямого простодушия. Виан с одинаковым пылом ненавидел «паршивцев» и любил то, что любил: он играл на трубе, хотя сердце не позволяло ему этого делать. («Если вы не перестанете, то через десять лет умрете», — сказал ему врач.) За разговором рассвет наступил слишком быстро: более всего я ценила, когда мне выпадало ловить вот такие мимолетные мгновения вечной дружбы.