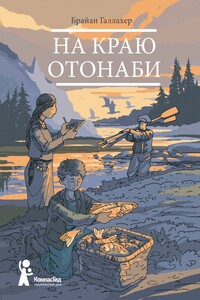Казалось, что Надя нисколько не изменилась: все такие же пухлые щеки, на которых еще оставался румянец, тонкий, чуть продолговатый нос. В сочетании с круглыми ребячьими щеками он был немного забавен. Раньше ее дразнили «долгоносиком», и она по-детски обижалась, чуть ли не до слез. У Нади был крутой лоб и очень большие, выпуклые глаза. Казалось, если она скосит глаз, он налезет на висок.
И теперь Надя на вид была все тот же «долгоносик» — молоденькая смешная девушка, почти девочка. Но, внимательнее вглядевшись, Снесарев увидел две горькие морщинки возле девичьих глаз.
— Надя, сядьте поближе. — Снесарев погладил ее по руке. — Тяжело?
— Да, — потупившись, прошептала Надя. — Да, очень тяжело, Василий Мироныч…
Он понял, что воспоминание о Мише крепко связывает их.
— Я вижу: не надо говорить, чтобы вы взяли себя в руки. Так и держитесь, девочка…
И больше они не говорили о Мише. Но оба чувствовали, что каждый думает о нем.
— А ваш ежик поседел и поредел, Василий Мироныч, — вдруг сказала Надя. — Должно быть, вы стали добрее.
— А разве я бывал недобрым?
— Бывали…
Так она дала понять, что знала об отношении Снесарева к ней.
Снесарев мягко ответил:
— Надя, бывает так, что не увидишь человека, ошибешься в плохую сторону… Потом казнишь себя за слепоту, спрашиваешь: почему же ты ошибся? И не можешь найти ответа…
Он замолчал и подумал: «Напишу Марине — ошиблись мы оба с тобой, глупейшим образом ошиблись».
Надя казалась теперь совсем другой. Откуда в ней такая глубокая душевность? Неужели огромное горе причиной этому? Нет, не то. Ничтожных людей горе может сломить, озлобить, толкнуть на самое дно. А Надя будто выросла, душевно возмужала.
— Как вы повзрослели, Надя. Совсем уже не та девочка, что прежде…
Надя приходила каждый день, хозяйничала. Болезнь Снесарева затянулась, осложнилась. Но порой, когда самочувствие было чуть лучше, он, накинув на плечи шубу и сунув ноги в старые, растоптанные валенки, садился к столу. Правда, ему был предписан полный покой, но листы проекта так тянули к себе… Надя, сердясь по-настоящему, грозила, что отберет и спрячет бумаги, что пожалуется в партком. И почти силой укладывала в постель. А Снесарев обещал, что больше не будет вставать.
Но как сдержать слово, когда мысли будят по ночам, новые и интересные мысли! Невозможно сопротивляться им. Снесарев зажигал мигалку и забывал обо всем: о том, что в доме пусто, что завод не работает, что Марина с Людой где-то далеко. Поднимаясь с кровати, он не чувствовал своего тела — такое оно было легкое. Но последние три дня Снесарев не вставал. При каждой попытке у него мучительно кружилась голова. Лежа, он продолжал думать о своем. Только бы не забыть то, что в таких удивительно ясных очертаниях вставало перед ним! Только бы запомнить найденные решения, помнить их до той минуты, когда он снова подойдет к рабочему столу!
5. Человек, который оставался незамеченным
Марина, бывало, смеясь говорила, что с последним глотком чая у мужа совершенно пропадает ощущение домашней жизни. После этого глотка он уже не дома за столом, где завтракает, а за своим конструкторским столом. Последний глоток допивался стоя — вовсе не потому, что не хватало времени, а потому, что конструктора срывали с места новые мысли. Следовал прощальный поцелуй жене — «довольно отвлеченный», по определению Марины. Затем Снесарев осторожно целовал ручку спящей Людмилы и уходил. В первые годы на него обижались за то, что он как-то небрежно и рассеянно здоровался с сослуживцами. Потом к этому привыкли. Он не всегда видел тех, с кем здоровался. Он проходил через будку, не замечая старого вахтера, которому каждый день предъявлял пропуск, хотя это был приметный человек — крепкий, высокий старик с четырехугольной полуседой бородкой, очень почтительный.
— Ну, и шутник же у вас там в проходной, — рассказывали Снесареву инженеры, приезжавшие с других заводов. — Концерт самодеятельности может вести.
— Кто это?
— Да старик такой… бравого вида. Неужели не знаете?
— Вахтер? Они у нас часто меняются.
— Однако я всего в третий раз здесь и все-таки обратил внимание.