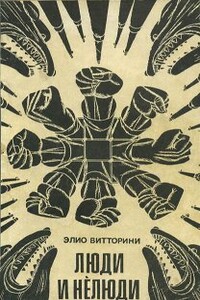Вернее, мать не пела, а напевала вполголоса старинные мелодии без слов, то мыча, то насвистывая, то издавая какое-то горловое воркование; и она выглядела смешно, эта женщина пятидесяти или пятидесяти без малого лет, с лицом еще не старым, высушенным годами, но не старым, с каштановыми, почти русыми волосами, в наброшенном на плечи красном одеяле, обутая в отцовские башмаки. Я видел ее руки: они были большие, натруженные, узловатые, совсем не то что лицо, — это могли быть и руки мужчины, который валит деревья или пашет землю, между тем как лицо ее было лицом одалиски в каком-то смысле. «Вот наши женщины», — подумал я и имел в виду не только сицилианок, но вообще женщин, в чьих прикосновениях рук по ночам нет мягкости и ласки, и, может быть, потому они бывают порой несчастными, ревнивыми и дикими, что руки у них не как у одалисок, не то что лица и сердца, и этими руками они не могут удержать при себе своих мужчин. Я подумал об отце и о самом себе, обо всех мужчинах, которым нужно чувствовать на себе мягкость рук, и решил, что понял отчасти наше беспокойство рядом с женщинами, нашу готовность дезертировать от них, от наших женщин с грубыми, проворными, почти мужскими руками, такими жесткими по ночам; и как мы попадаем в рабство и зовем королевами женщин, когда они, женщины — одалиски, если такое случится. Поэтому, думал я, мы и любим саму идею высшего света, всего военно-бюрократического общества, иерархии, династии, даже сказочных принцев и королей ради идеи женщины-одалиски, чьи руки взлелеяны для ласки. Нам довольно знать, что они существуют, знать, что такие женщины есть, хотя и отгороженные от нас своими скакунами, гербами, евнухами; и так получается, думал я, что мы начинаем любить весь их праздник с его фанфарами и гербами, их большой гарем, даже их мужчин, и не выходим из игры, но отворачиваемся от женщин и девушек, которые нам ровня, ища взглядом других — мы все: я, мой отец, всякий мужчина, — ища в новых женщинах чего-то нового и не подозревая, что ищем мы прикосновения нежных рук. Так я размышлял и думал о том, какие мы подлецы, когда глядел на руки матери, такие обезображенные, и представлял себе ее ноги, такие же обезображенные, в мужских башмаках: на все это надо закрывать глаза, словно это неназываемое в них — от другой природы. Мать пела — и была как певчая птица, она насвистывала, мычала, ворковала, и ее руки и ноги были ни при чем, и ни при чем были ее годы: важно было только, что она поет, что она как птица, — моя мать-птица, принадлежащая воздуху и — когда она кладет яйца — свету, приносящая свет.
— Что же, — сказал я, — ты, наверно, когда бываешь одна, проводишь так все свое время. — Как? — Да так, — сказал я. — Напеваешь.
Мать пожала плечами, показывая, что, может быть, и не замечает, как поет. А я добавил: — Тебе не тяжело быть одной?
Тогда она взглянула на меня искоса, как всегда в минуты растерянности, потом, наморщив лоб, сказала: — Если ты думаешь, что мне не хватает общества твоего отца, так ты ошибаешься. Что это тебе взбрело в голову?
— Почему? — сказал я. — Разве он был для тебя плохой компанией? Я думаю, он тебе помогал даже убирать.
И мать сказала: — Это не значит, что я должна чувствовать себя без него одинокой.
А я сказал: — Он ведь был настоящий кавалер.
А мать сказала: — Для чего в доме кавалер? В том-то и мое несчастье, что он был настоящий кавалер.
А я сказал: — Пожалуйста, объясни понятнее.
А мать сказала: — Понимаешь, дедушка не был кавалером… Он не называл женщин королевами, не писал для них стихов. — Наверно, он не любил женщин, — сказал я.
А мать сказала: — Не любил? Да он любил их в десять раз больше, чем твой отец. Но ему незачем было звать их королевами. Которая ему нравилась, ту он просто тащил в ложбину. Здесь, в деревне, много женщин его помнит. И в Пьяцце тоже.
— И ты еще жалуешься на отца? По-моему, будь ты женой дедушки, тебе, с твоим характером, было бы хуже.
— Хуже? — воскликнула мать. — Почему хуже?
— А потому, — сказал я. — Дед тащил их в ложбину, отец писал им стихи. Мне кажется, эти прогулки в ложбину тебе было бы тяжелее выносить, чем стихи…