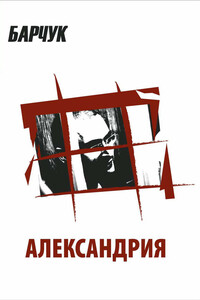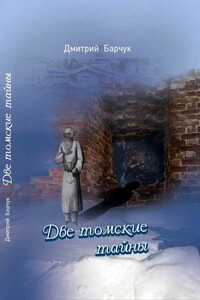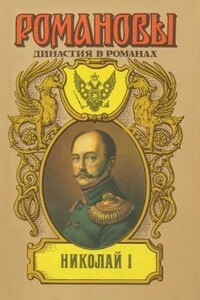За неделю своего секретарства я уже привык к перескокам потанинской мысли. Было очевидно, что образцом для своих мемуаров он выбрал «Былое и думы» Герцена[56]. Хронологический принцип он явно заимствовал у редактора «Колокола». Но память порой его подводила. Начав рассказ об одном событии, он мог увлечься описанием какой-нибудь второстепенной детали, уйти далеко в сторону и развивать совсем иной сюжет, относящийся совершенно к другому периоду его жизни. Иногда забывался на полуслове и дремал. Но, просыпаясь, спрашивал меня, на чем мы остановились. Я крупными жирными буквами писал на листе окончание его последней фразы. Сильно прищурившись за своими выпуклыми очками, старик медленно прочитывал мою запись и продолжал диктовать дальше без сбоев, словно и не было никакого перерыва.
– На пятом году жизни я лишился матери, и я ее не помню…
«Я тоже!» – захотелось вскрикнуть мне, но я промолчал.
– Большей же частью я в доме дяди жил на положении барчонка…
А я?
Когда Григорий Николаевич описывал полковницу, взявшую его на воспитание, перед моими глазами возникала моя приемная мать Елизавета Степановна.
Правда, здесь наши дороги с маленьким Гришей Потаниным, прошедшим по ним на полвека раньше, разошлись. Он оказался в кадетском корпусе в Омске, а я – в томской гимназии. Но и этих совпадений было достаточно, чтобы я осознал всю их НЕСЛУЧАЙНОСТЬ.
– Отец рассказывал, когда мне было полгода, ему пришлось перевозить меня из одной станицы в другую. Это было зимой. Он с женой ехал в кошеве[57], а меня привязали сзади к подушке. По дороге ямщик остановил лошадей, разбудил спящего отца (была ночь) и сказал, что ему показалось, будто что-то с воза упало. Подушки с ребенком не оказалось. Испуганные родители бросились назад и нашли меня на порядочном расстоянии от кошевы, продолжающим спокойно спать. Это было начало моих путешествий. Я начал странствовать на первом году жизни, и только тогда мне угрожала смертельная опасность.
Я записываю и отчетливо вижу заснеженную степь и маму, укутывающую меня своим шелковым платком, будто невесомая ткань может согреть на морозе. Сознание уже уплывает, тело перестает ощущать холод, а мама сквозь слезы успокаивает меня, прижимая к себе:
– Ничего, ничего, сынок. Скоро согреемся. В раю – тепло, там всегда лето.
Дикий свист, топот копыт, взволнованное лицо киргизца в меховом малахае, крепкие руки, укутывающие меня в овчинный тулуп. И я засыпаю в тепле.
– В кадетском корпусе дети сибирских казаков обучались в эскадроне, а дворяне, выходцы из Европейской России, в роте. Мы были демократия. Бельэтаж – это была Европа, нижний этаж – Азия. В бельэтаже учили танцам, а казаков в те же часы – верховой езде. Там учили немецкому языку, а в нижнем этаже – татарскому. Вот откуда берет истоки культурный сибирский сепаратизм. Само правительство посеяло его, стремясь сохранить сословную чистоту в детях дворян.
Мы зачитывались повестью Гоголя «Тарас Бульба» и чувствовали себя сродни запорожским республиканцам, самим избиравшим кошевых атаманов[58].
Казачий офицер в ту пору получал в год 72 рубля жалованья, армеец – 250 рублей и кроме этого различные надбавки: квартирные, фуражные, на отопление и освещение. Казачий – голое жалованье. Армейский имел денщика, казачий сам себе чистил сапоги. Армейцу после окончания службы полагалась пенсия, а казачьему – нет. И награды начальство давало армейцам куда охотнее, чем казакам.
Мы даже мечтали развязать против армейцев партизанскую войну. Даже уговорились, одевшись в киргизские шубы и малахаи, нападать по ночам на проходящих мимо армейцев и стегать их нагайками…
Григорий Николаевич умолк. Я пригляделся и понял, что он заснул. Короткий зимний день уже клонился к закату, и в тесную, уставленную книжными шкафами комнату вползли причудливые сумерки. Я тихо вышел из кабинета и затворил за собой дверь.
Мой квартирный вопрос пока не решился. Я побывал по трем адресам, предложенным мне Шаталовым, но ничего путного не нашел. И продолжал шиковать в гостинице «Европа».
Однажды на входе на свой этаж я был неожиданно атакован двумя собаками – большим мраморным догом и его длинношерстным компаньоном, ирландским сеттером. Животные играли и ко мне отнеслись миролюбиво, только «украсили» шерстью мои брюки.