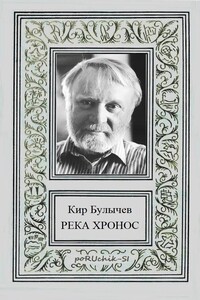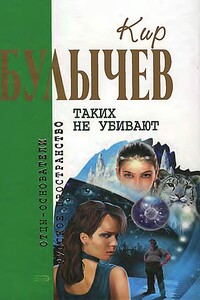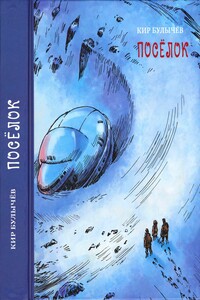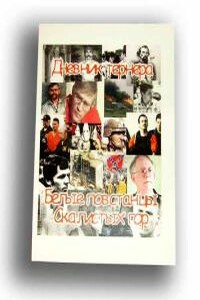Обывателям, которых накопилось уже несколько тысяч, зрелище парада было по душе. Многие стояли, украшенные красными бантами и розетками, над толпой виднелись два или три красных флага. Но ни Колчак, ни иные лица, принимавшие парад, никаких бантов и ленточек себе не позволяли – тем более что пока и не было указаний из Петрограда по части дальнейшей судьбы армейского церемониала.
Когда последний отряд реалистов, сопровождаемый оркестром, прошел мимо собрания и площадь опустела, если не считать зрителей, не спеша расходившихся по домам, потому что было уже около часа и пора обедать, Колчак обратился к стоящим ближе прочих генералу Веселкину и епископу Сильвестру и произнес благодушно:
– Кажется, мы успели.
Глупый Веселкин хохотнул, не поняв, чего же успели, и сказал:
– Пора, пора, желудок пищи просит!
И сам захохотал.
– Свой долг перед революцией мы сегодня выполнили, – заметил ехидный Сильвестр, и остальные вокруг засмеялись.
– Впрочем, вы правы, – позволил себе улыбнуться Колчак. – Мы заработали обед. Революционерам уже поздно начинать демонстрации.
Он был уверен, что достаточно долго отвлекал внимание горожан и нижних чинов.
В час уехали обедать к Веселкину, полагая, что праздником революция завершилась. Но не учли, в том числе и умный Александр Васильевич, что дальнейшие события могут включать иных участников, вовсе не тех, что прошли парадом или отхлопали в ладоши.
Пока шел обед, сложилась иная ситуация.
Бухта была буквально наполнена шлюпками, катерами, яликами, баркасами
– шло первое воскресенье после революции, и если в будний день матроса можно заставить красить палубу или грузить уголь, воскресный день – святое дело, отдых. На то есть закон и порядок.
Всю неделю матросы на кораблях питались слухами и случайными новостями. Все жаждали узнать – что же случилось. Ведь если революция – это нас касается или нет?
Матросы сходили на Графской пристани, встречали знакомых из других команд и экипажей, мало кто спешил на свидание – наступал день политики, а не любви. Даже для самых от политики далеких, даже не знавших, что такое политика, новобранцев.
Обычно матросы, сходя на берег, на Графской пристани или Нахимовском не остаются – зачем маячить на глазах у начальства? Они переходят туда, где тише, – на Исторический бульвар, а то в Татарскую слободку или на Корабельную сторону, к полуэкипажу.
К полуэкипажу тянулось больше всего народу. Там, на громадном плацу, окруженном казармами, и оставались. В полуэкипаже народ самый осведомленный, они не грузят уголь, к ним попадают газеты – они на берегу.
Почему-то Александр Васильевич, который все старался предусмотреть, объединяющей роли полуэкипажа не учел, как не учел и святости воскресного дня. Впрочем, если бы учел – может быть, задержал бы течение революции в Севастополе на день-два. А потом все равно колесо судьбы, катившее по России, взяло бы свое – и закрутило бы и Севастополь, и Черноморский флот, и весь Крым так же, как это случилось во всех других городах и гарнизонах.
Часам к трем во дворе полуэкипажа скопилось несколько тысяч человек – большей частью матросов. Но было немало солдат и портовых рабочих. Чтобы ощутить силу, хотелось быть вместе со своими. И когда своих стало много, потом очень много – ощущение силы пронизало весь плац. Ораторы, которые поднимались на большие ящики, стащенные на середину плаца, сначала говорили то, что узнали из газет, – говорили о Петрограде. Но вскоре оказалось, что революция имеет иное понимание – кто-то первый вдруг выкрикнул:
– А у нас революции нету! Ее адмиралы в кармане держат!
Толпа радостно загудела – эти слова были важнее, чем то, каков состав Временного правительства в Петрограде.
Ораторы выстроились в очередь. Толпились, спешили сказать. Всех слушали, если недолго. Ораторы произносили слова, которые можно говорить жене или другу, но вслух, для всех, с трибуны их никогда не произносили и не думали, что будет возможно.
К невозможному в политике человек привыкает за несколько минут. Шок короток – как, неужели это и мне можно? На глазах рождаются ораторы, никогда ранее не витийствовавшие за пределами своего кубрика, а оказывается, вполне приемлемые ораторы, потому что куда лучше Гучкова или Шульгина отражают желания тех тысяч, что стоят вокруг разинув рты, слушают, удивляются сопричастности к великим делам.