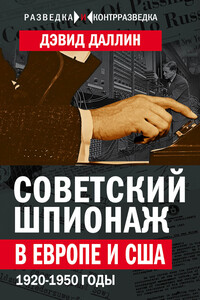Москва заявила, что имела в своем распоряжении атомную бомбу задолго до того, как в сентябре 1949 года президент Трумэн объявил, что Советская Россия произвела первое испытание. Еще в ноябре 1947 года министр иностранных дел Молотов в выступлении перед Московским советом сказал, что «атомная бомба уже давно не представляет секрета», давая понять, что советское правительство располагает ядерным оружием.
На самом деле в 1947–1948 годах, когда стало ясно, что производство ядерного оружия является неизбежным делом, произошла полная реорганизация в атомных проектах. Профессор Петр Капица, глава советского атомного проекта, который провел четырнадцать лет в Англии, был смещен с этого руководящего поста, хотя ему разрешили продолжать научную работу. Члены коммунистической партии, более надежные, чем Капица, хотя и не столь выдающиеся в научном отношении, были выдвинуты на руководящие административные посты. Для контроля за ходом работ по созданию атомной бомбы была учреждена специальная комиссия, в которую вошли Николай Булганин, Георгий Маленков и некоторые другие.
Суммируя достижения советского атомного шпионажа, следует отметить, что в этой области разведки вклад международного коммунизма был весьма значительным. Если бы России пришлось идти на ощупь сквозь первоначальную атомную тьму и повторять эксперименты, проделанные в других странах, ей было бы нужно десятилетие или даже больше, чтобы достигнуть уровня, на котором находились Соединенные Штаты. В дополнение к научным результатам, полученным в собственных лабораториях, русские ученые пользовались помощью лаборатории совсем другого рода, расположенной по адресу Знаменская улица, 19, а именно ГРУ. Беспрецедентное вынужденное сотрудничество науки и шпионажа, которое продолжалось в течение всей войны, определило советский прогресс в атомной области. Советская атомная бомба стала продуктом объединенных усилий советских ученых и британских, канадских, немецких, венгерских, итальянских и американских коммунистов. В ущерб своим собственным странам коммунистические партии Запада таким образом сторицей отплатили Советскому Союзу за политическую и финансовую поддержку, которую они получали от него в течение более чем двадцати лет.
Правительство соединенных штатов и советский шпионаж
Не раз уже мы упоминали о том, что в течение двух десятилетий, предшествующих 1946–1947 годам, правительство Соединенных Штатов было склонно преуменьшать значение советского шпионажа и демонстрировало терпимость к тем, кто был с ним связан. Для этого было несколько причин.
Первая состояла в том, что Советский Союз рассматривался как второстепенная страна. Советская Россия вышла из своих войн 1917–1920 годов с плохо оснащенной армией, без военно-морского флота и военно-воздушных сил. Ей пришлось примириться с потерей больших территорий на Западе и на Востоке, ее население уменьшилось на двадцать пять миллионов человек. Позже поспешная коллективизация сельского хозяйства и чистка, проведенная в офицерском корпусе, еще более ослабили вновь созданную армию. Люди спрашивали себя, какую угрозу может представлять Россия, даже если несколько шпионов доставят в Кремль несколько секретных документов из-за границы?
Во-вторых, Советская Россия рассматривалась с начала тридцатых годов в качестве потенциального союзника против Японии и Германии и считалось неразумным обижать Москву ненужными разоблачениями, связанными со шпионскими делами. Американская политология уделяла совсем немного внимания советской политике, советскому подполью за рубежом и советскому шпионажу. Такое отношение крепло год от года, пропорционально агрессивности Японии и Германии.
На фоне такого американского общественного мнения и отношения правительства можно понять, почему агентства безопасности с такой неохотой выдвинули обвинение против Марка Зильберта, о шпионской деятельности которого им было хорошо известно, почему не придали должного значения шпионской организации Свища-Османа в Панаме, почему не стали подробно расследовать деятельность корпорации «Амторга», почему разрешили разоблаченному шпиону Михаилу Горину уехать из Соединенных Штатов без отбытия наказания, к которому он был приговорен. Становится понятным и то, почему Адольф Берль не поверил в историю Уиттейкера Чэмберса, почему агентства безопасности в течение трех лет не могли положить конец активности тайных групп в правительственных кругах Вашингтона, не проявили должного внимания к делу Клауса Фукса и будто вовсе не замечали промышленного шпионажа. Даже американские граждане, запутавшиеся в паутине советского шпионажа, обычно выходили сухими из воды. И между этой терпимостью и смертными приговорами двум советским шпионам в 1953 году лежал длинный путь.