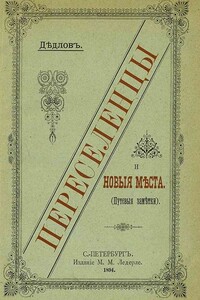— Ты храбрый человек, — сказал мне Т. — Я только хотел испытать тебя. Помиримся.
Этим Т. окончательно покорил меня.
Всех подвигов, совершенных мною, под предводительством Т., не перечесть. Мы по два дня ничего не ели, чтобы развить в себе силу воли. Мы предпринимали опасные экспедиции на дикие страны. Этими странами были крыши школы и соседних домов. Путешествие на соседнюю крышу было сопряжено в самом деле с опасностью. Она отделялась от нашей промежутком аршина в три шириной. Нужно было разбежаться и перепрыгнуть. Как мы при этом не свалились вниз, причем, конечно, расшиблись бы до смерти, я не понимаю. Чтобы время на крыше шло веселее, мы за обедом ничего не ели, а, что было можно, завертывали в бумагу и съедали уже на крыше, откуда любовались Москвой, небом и летавшими в нём голубями. Это были очень приятные и поэтические минуты. Иногда Т. напускал на себя благочестие, и мы по ночам читали Евангелие и молились. Как-то Т. провозгласил себя диктатором школы. Он учредил администрацию, войско, суд и законодательный совет. Были чины и патенты на чины. Был свод законов, была тюрьма и, конечно, экспедиция заготовления государственных бумаг и деньги, в форме бумажек от карамели, снабженных подписями диктатора и министра финансов. Деньги серьезно ходили, в течении дней десяти; на них можно было покупать перья, карандаши, у приходящих — их завтраки. Я отлично помню, что первыми продали свои бутерброды два еврейчика, братья Л. Теперь они наверно где-нибудь уважаемыми банкирами (один из них еще при мне уехал в Нью-Йорк). Банкирами они были и тогда (и скупщиками заведомо краденых книг). Они стали покупать наши кредитки на настоящие деньги, по копейке за 10 000 рублей. Потом они продали их по полторы копейки за 10 000 рублей. Рынок был наводнен, кредитки упали в цене до нуля; владельцы и государство обанкротились, а банкиры братья Л. составили себе колоссальное состояние копеек в тридцать. Больше всех во время этого знаменитого краха пострадал диктатор, потерявший многие миллионы, но так как кредитки он сам делал, а не заработал, то и не тужил. Неприятность была в другом: именно, разоренная республика взбунтовалась и низложила диктатора. С тех пор, как завелись на свете деньги, даже величайшие события совершаются не по прихоти денег только в виде редких исключений.
Вскоре после крушения своей диктатуры Т. совершил дела, которые взволновали школу до основания, не исключая д-ра Леша, не исключая самого церковного совета, «кирхенрата», ведавшего школу; оберпастор и (захватите побольше дыхания, читатель) генералсуперинтендент, и те задумались. В школе, церковной лютеранской Санктпетрипауликнабенкирхеншуле, завелись московские черти. Как ни просвещены, как ни выше всяких суеверий немцы, но в Москве и они немного верят в чертей. Да и нельзя не верить. В Москве почти на каждой улице есть дом, в котором никто не живет, потому что там поселились черти. Московский немец слышит об этом с детства, можно сказать, всасывает чертей с молоком московской кормилицы, и потом, будучи банкиром, богатым фабрикантом, крупным купцом… членом кирхенрата, он не может вполне отрешиться от впечатлений детства. Московские немки идут дальше и, в то время как немцы верят только в русскую нечистую силу, немки, со свойственным женщине идеализмом, верят и в русских угодников. Нередко в трудную минуту жизни немка дает обещание, конечно, по секрету от своего немца, сходить к Троице-Сергию. И она идет, и случается, что после двух, трех паломничеств, она возвращается домой тайной православной. Я знаю одну немку, — Эмилию, которая была миропомазана по недоразумению под именем рабы Емели. По воскресеньям такая Емеля продолжает ходить в кирку, угрызается своим притворством и, глядя на пастора в черной блузе и с белым фартучком под бородой, с тоской вспоминает о величественных ризах и блистающих митрах у Троицы-Сергия.
Итак, в школе завелись черти. Это произошло, конечно, зимой, когда ночи длинны, воет в трубах ветер, половина дома стоит темной, и человек, склоннее верит в чудесное. Первым услышал чертей жеманный женоподобный мальчуган, страстный музыкант, по прозвищу Старая дева, или мамзель Фифи. Часов в восемь вечера он играл в актовом зале на фортепьяно и вдруг турманом слетел со второго этажа в первый, где пансионеры готовили уроки. Он просто прыгнул на надзирателя: — «Что такое?» — В классных комнатах, рядом, с актовой залой с страшным грохотом пляшут скамейки! — Пошли наверх, там всё тихо. Напились чаю, пошли парами в спальни. Мамзель Фифи повис на руке надзирателя и идёт зажмурив глаза. Лишь только поровнялись с коридором, который вел в классы, как раздался грохот скамеек, которые точно в чехарду играли, а из коридора вылетел с силою бомбы большой ком мела. Мальчуганы, которым он попал под ноги, запрыгали так, точно мел их кусал, а уж закричали — как зарезанные. Передние ринулись наверх, задние не хотели идти мимо коридора. Позвали сторожей, принесли огня, осмотрели классы, — нигде никого, но скамейки в беспорядке, некоторые перевернуты.