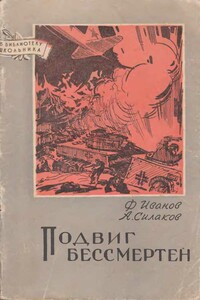— Железные в общих камерах не разрешают. Боятся: будем мастерить из них «колюще-режущее». Вот, на ваше счастье…
— Спасибо, — сказал я.
— Пользуйтесь на здоровье. Для зэка две ложки — роскошь.
Ел он странно: брал из миски мизерными порциями, отправлял в рот и жевал или, скорее, сосал. Так едят беззубые, но не кашу же!
— Вам ее надолго хватит, — не без зависти заметил я.
— Ровно на десять минут, — отозвался он, — через десять минут придут за мисками. Да вот и они!
Стукнуло окно «кормушки», и та же рука приняла от нас посуду. Я с удивлением взглянул на профессора. И увидел, что он бережно переносит комочек каши со стола на краешек нар.
— Хочу предупредить, юноша: я не один в камере. Вернее, мы с вами не одни. Это для того, чтобы потом не было недоразумений. Учтите, я ее очень люблю и не позволю обижать. — Последнюю фразу он произнес угрожающе. — С нами моя маленькая Настя.
Только сумасшедшего мне не хватало! Я отодвинулся подальше в угол. А если он буйный? Мишка Денисов говорил, что у сумасшедших сила удваивается. У него несчастье случилось с отчимом, и Мишка — тогда еще шестнадцатилетний подросток — спасал от него мать и сестру. Хотя — я еще раз внимательно присмотрелся к Панченко — вряд ли он способен драться, слишком тощи руки, и ноги болтаются в штанинах, как палки.
— Странно, — сказал Георгий Александрович, — обычно она приходит сразу после ужина, — он подозрительно покосился на меня, — послушайте, вы не могли бы посидеть не шевелясь?
— Пожалуйста, если вам так хочется, — ответил я и увидел мышь. Она была маленькой — наверное, мышонок, — но вела себя очень смело. Забравшись на нары, подошла к комочку каши, с минуту ела, смешно двигая носиком, придерживая еду лапками, затем оставила ее, вскарабкалась Панченко на живот и принялась умываться. Георгий Александрович заливался счастливым смехом.
— Правда, она прелесть? Вы можете разговаривать, только не слишком громко: Настя любит тишину. Когда она была совсем маленькой, то любила спать у меня вот здесь, — он показал пальцем на яремную впадину под кадыком, — видимо, биение пульса напоминало ей шевеление братьев и сестер в материнском гнезде.
Иногда мышь прерывала туалет и нюхала воздух.
— Это она вас чует. Месяц назад здесь были люди, но Настя тогда еще не родилась.
— Значит, вы уже месяц в одиночке?
— Одиночка мне нравится больше, чем камера, набитая людьми. Знаете, сколько здесь было в июне— июле? Тридцать два человека! Лежали на полу впритирку. Чтобы пройти к параше, приходилось наступать на лежачего. Помню одного юношу — кажется, филолог, — он лежал возле параши, и все идущие к ней на него наступали. Знаете, что он сказал мне в свою последнюю ночь? Он сказал: «Профессор, пожалуйста, вставайте на живот: плечи и грудь мне уже совсем отдавили». Утром он умер. Двадцать семь лет! Мальчик еще. А я вот жив… Блатные мне всегда уступали место на нарах. Я ведь «тискал романы» — эти недочеловеки очень любили мои романы.
— Сколько же вы сидите в тюрьме?
— С сорок пятого года. Меня арестовали сразу, как только ваши войска вошли в Варшаву.
— А как вы туда попали? Вы же гражданский человек.
— Я там родился. До вашей революции Польша была просто Варшавской губернией России. Мой отец, генерал-аншеф Панченко, состоял в должности помощника генерал-губернатора Варшавы. Он скончался задолго до семнадцатого года. Я закончил университет и получил диплом юриста, но пожелал продолжить образование и уехал в Париж, где поступил на факультет естественных наук. Культура, молодой человек, не дается легко. После окончания был в Мексике, Бразилии, Аргентине — этого требовала моя работа — еще кое-где, но почему-то всегда меня тянуло в Польшу.
— А в Россию вас не тянуло?
— Россия мне близка по происхождению: отец — выходец из Новгородской губернии, мать — полька. Разумеется, я бы приехал, еще до войны, но, простите великодушно, у вас же произошла революция! Как можно ученому работать при большевиках?
— Тимирязев, Павлов как-то работали.
— Меня это всегда удивляло: интеллигентные люди и — большевизм… Говорят, им создавали условия. По понятиям большевиков, прекрасные, но за это они должны были отчитываться перед ними за каждый рубль, за каждого кролика. От них постоянно требовали немедленной отдачи!